ГЛАВА ВТОРАЯ
СЛАВЯНСКАЯ ЭПИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ
(изменчивость и стадиальное положение эпосов)
1. Точка отсчета времени и фактов
2. Отношение к письменным источникам
3. О значении исторических реалий
4. Эпические имена, герои и циклы
5. Эпические центры и эпическая иерархия
Небесные светила на теле (или на одежде) — Железные лапти и посох — Реакция природы на рождение или появление героя — Требование едва родившегося героя — Роли добытой жены — Перескакивание через коней — Отчего лес не зеленый — Нашествие - туча — Полоны — Вид этнического противника — Прожорливость этнического противника — Пышет огнем — Ни птица пролетит, ни человек пройдет — Двор этнического противника — Герой подбрасывает и ловит палицу — Герой вгоняет противника в землю — Герой выкалывает противнику глаза, отрубает руки и ноги — Оженила мать — сыра земля — Нравы эпохи (страны)
1. Точка отсчета времени и фактов
При самом предварительном знакомстве с материалом может показаться, что между славянскими эпосами имеется слишком мало общего.
Действительно, по мнению многих исследователей различных научных школ, зарождение славянских эпосов надлежит датировать эпохой разложения первобытнообщинного строя и образования первых славянских государств. Такая дата означает, что к этому времени славяне уже расселились и что постоянные фольклорные контакты одновременно между тремя славянскими языковыми группами, в особенности между их крайними периферийными зонами (ср. Македония и Новгородчина), перестали существовать. В жизни славянских народов на протяжении минувшего тысячелетия имелись серьезные различия. Стало быть, и логика эпического творчества, бесспорно зависимая от исторических перипетий, не могла не испытывать их воздействия. Акцентируя внимание на различиях исторического свойства, можно без труда отвести проблему общности, даже не обращаясь к эпическим песням.
Ряд ученых, исследовавших этногенез славян, категорически утверждает существование изначальных различий между славянами. Так, Л. Нидерле объясняет различия изначальным воздействием на славян неадекватных влияний со стороны других народов [1]. Объявляя «мифом» как единство славянской культуры, так и «пресловутое единство самого древнего славянства», П. Н. Третьяков резко противопоставляет единой праформе многообразие форм [2]. Эта мысль прослеживается и в других работах П. Н. Третьякова, хотя с точки зрения методологии вполне правомерно представлять единую праформу имен
1. Л. Нидерле. Славянские древности. М., 1956, стр. 33, 43 и др.
2. Я. Я. Третьяков. Восточнославянские черты в быту населения придунайской Болгарии. СЭ, 1948, № 2, стр. 176.
19
![]()
но в виде многообразия (вариантов) сходных форм. Подобно Нидерле, он также объясняет различия неадекватными влияниями, добавляя к ним еще и роль субстрата [3].
О значении этих факторов мы уже говорили, и в данном случае, как представляется, суть дела сводится не столько к их переоценке, сколько к тому, чтобы с помощью подобных факторов примирить существующие гипотезы об этногенезе славян и постепенно менявшейся области их расселения (прародине). Благодаря примирительному соединению гипотез роль различий между славянами выступит на первый план. А только различиями родство славянских народов, не говоря уже о других аспектах, объяснить нельзя.
Вместе с тем примечательно, что даже авторы, настаивающие на изначальных различиях между славянами, стремятся все же обнаружить как можно больше моментов сходства, совпадения, тождества. А именно тогда, когда учитываются как сходства, так и различия, раскрываются явления славянского единства.
При этом исследователи широко пользуются несколькими методическими приемами, представляющими методологический интерес и для нашей работы.
Так, если сходные пережиточные явления духовной культуры бытуют среди некоторых народов разных языковых славянских групп, то делается вывод о повсеместном их распространении у славян в древности.
Другой методический прием — «метод обратной хронологии», когда исследователь идет от достоверного к непознанному, всецело опираясь на поиск преемственности. К этому приему часто прибегают археологи. При этом огромное значение приобретают подбор принципиальных признаков и качество понимания эволюции. Недостаточность в этом отношении приводит к натяжкам и отрицательному результату в показе преемственности археологических культур.
Интересно проводит учет сходства и различия лингвистических фактов Т. Лep-Сплавиньский [4]. Считая, что праславянский язык и праславянское этническое единство прошли определенные эволюционные фазы, он выделяет эти фазы при помощи правила: сходство и различие лингвистических фактов
3. П. Н. Третьяков. Вопросы и факты археологии восточных славян. В кн.: «Тезисы докладов на сессии Отделения истории АН СССР». Л.t 1969, стр. 44—47; он же. Об истоках культуры роменско-боршевской древнерусской группировки. CA, 1969, № 4, стр. 80—82.
4. Т. Лep-Сплавиньский. Польский язык. М., 1954.
20
![]()
дают возможность по-разному сгруппировать славянские народы. В этом случае одни лингвистические факты [5] позволяют разделить славян на западных и восточных (включая будущих южных)—этот момент для Т. Лера-Сплавиньского является точкой отсчета времени; другие лингвистические факты свидетельствуют о делении восточных славян на собственно южных и восточных; третьи лингвистические факты говорят о выделении из западных славян предков чехов и словаков и контактах словаков со словенцами. IX век, по мнению ученого,— это рубеж разрыва связей между западными, восточными и южными славянами из-за вторжения и поселения предков венгров.
Аналогичный методический прием использован и в работе С. Б. Бернштейна [6], правда, его интерпретация эволюции праславянского языка выглядит несколько иначе. На наш взгляд, датировка и последовательность расположения фактов из самого методического правила не выводимы. Для этого требуется и привлечение других источников. Тем не менее прием безусловно плодотворен.
Существуют и более сложные методики, с привлечением математики [7].
Для фольклористики, очень сильно отставшей в деле реального изучения межславянской общности, использование названных методических приемов уже выглядело бы как весомое достижение.
Помимо методической стороны, работы ученых, исследовавших этногенез славян, ценны тем, что помогают отыскать и для славянского фольклора точку отсчета времени и фактов. Такой точкой отсчета видится вторая половина I тысячелетия н. э., эпоха больших миграций славян. Раньше этого времени о славянах сведений практически нет.
Мы не считаем необходимым при современном состоянии фольклористики входить в споры о славянской прародине и характере древнейших археологических культур на территории славянских стран. Вместе с тем мы не можем не отметить факг созвучия племенных названий славян. Его вслед за П. Шафариком отмечали едва ли не все славяноведы. Поскольку большинство восточнославянских племенных названий перекликается
5. Для нас в данном случае их конкретное содержание безразлично.
6. С. Б. Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. M., 1961.
7. См. например: П. А. Петров. Етнографски елементи на славяно-балто-германската общност. София, 1966.
21
![]()
Таблица 1
Племенные названия славян [*]
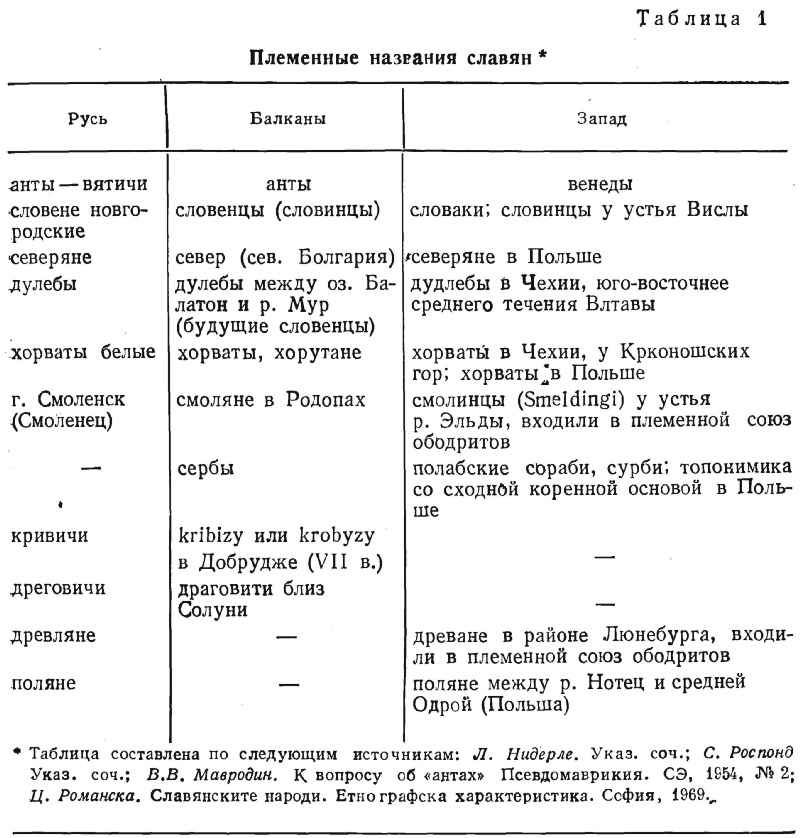
*. Таблица составлена по следующим источникам: Л. Нидерле. Указ. соч.; С. Роспонд. Указ. соч.; В.В. Мавродин. К вопросу об «антах» Псевдомаврикия. СЭ, 1654, № 2; Ц. Романска. Славянските народи. Етнографска характеристика. София, 1969.
с названиями других славян и, напротив, меньшинство племенных названий южных и западных славян перекликается с восточнославянскими (табл. 1), то отсюда, видимо, нужно сделать вывод, что источники, где отмечены эти названия, фиксировали наряду с ними совершенно разные уровни общественной организации славян. Иными словами, под этими терминами могло подразумеваться и племя, и разные объединения племен. Поэтому будет вполне правомерным отвести большинство этих терминов, объяснив их созвучие сходными географическими и историческими причинами. Но даже в этом случае, проявив
22
![]()
предельный скептицизм, не удается отбросить термины венеды— анты — вятичи [8], сербы, хорваты, дулебы. Эти этнические названия славян явственно намекают на былое их единство,, а также и на последующее расщепление однородных славянских группировок, происшедшее по неизвестным историческим причинам [9].
Факт такого рода имеет для нас принципиальное значение, ибо он вполне сопоставим с многочисленными случаями расщепления сюжетов в славянском фольклоре.
Наряду с этим фактом нужно особо выделить мнение многих ученых относительно ближайшего родства славянских предков нынешних болгар и предков восточных славян. Характерно предположение сербского ученого С. Новаковича, видевшего в антах предков болгар [10]. Мысль о разделении антов на балканскую и восточнославянскую ветви была развита Н. С. Державиным [11] и поддержана — правда лишь в отношении семи мизийских племен Придунавья — П. Н. Третьяковым [12]. Глубоким убеждением о ближайшем генетическом родстве болгар и восточных славян проникнуты многочисленные работы болгарского этнографа П. А. Петрова. Археолог И. И. Ляпушкин, сделавший последний по времени обзор литературы об антах, прямо связывает через антов восточных славян и славян Подунавья [13-14].
Что же касается лингвистов, то для них ближайшее родство славян Мизии, Фракии, Македонии и славян Восточной Европы, по-видимому, выглядит аксиомой. Таким образом, если бы в области фольклора удалось собрать большое число фактов, дающих эволюционные переклички и свидетельствующих о значительном сходстве больших фольклорных систем, то истоки этого
8. О том, что это однокоренные этнонимы, см.: S. Rospond. Prasłowianie w świetle onomastyki. «I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 14—18.9.1965». Wrocław—Warszawa—Kraków, 1968, str. 129—130.
9. О расщеплении славян говорит также И. И. Ляпушкин («Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского государства. VIII— первая половина IX в.». Л., 1968, стр. 161—162). Он тоже опирается на совпадение племенных названий, но не проводит их предварительной дифференциации.
10. Л. Нидерле. Указ. соч., стр. 140.
11. Н. С. Державин. Племенные и культурные связи болгарского и русского народов. М., 1944, стр. 11—18; он же. История Болгарии, т. I. М.— Л., 1945, стр. 229.
12. П. Н. Третьяков. Восточнославянские черты в быту населения придунайской Болгарии.
13-14. И. И. Ляпушкин. Указ. соч., стр. 10—19.
23
![]()
материала можно было бы отнести по меньшей мере к VI—VII вв. Вместе с тем такой фольклорный материал послужил бы надежной базой для реконструкции других этапов межславянской фольклорной общности.
Вторая половина I тысячелетия н. э. была переломной для славян во многих отношениях. Здесь очень важно отметить стремление историков перенести «начальную грань феодального периода» в истории славян к VI—VII вв. [15], т. е. ко времени активного заселения славянами Балкан и Восточной Европы. Эта нижняя граница государственности у славян, на наш взгляд, служит своего рода указателем того, что по меньшей мере с этого времени могли зарождаться эпические схемы об отражении вражеских нашествий, о решении межэтнических конфликтов путем единоборства двух воинов, полузависимом или вовсе независимом положении эпического героя («феодала») относительно «царя» или «короля» и т. д. В общественной жизни славян того времени безусловно актуальную роль играли языческие верования, кровнородственные отношения, обряд умыкания, обычай брать жену не в своем роде (племени) и другие явления, также широко отразившиеся в эпосе в виде определенных повествовательных стереотипов.
Переломные эпохи всегда оставляют заметный след в жизни и памяти людей. Вторая половина I тысячелетия н. э., вероятно, была для славян одной из самых примечательных и ярких страниц истории: переход к государству и государственной религии, ломка старых устоев и норм и обязательная попытка сознания примирить старые представления с новыми требованиями.
2. Отношение к письменным источникам
Исследование славянской эпической общности окажется очень затруднительным, если его начать с предварительного сопоставления каждого народного эпоса с местными летописями и другими письменными источниками. В этом случае славянская эпическая общность будет показана реально в той же степени, в какой письменными источниками стандартно
15. В. Д. Королюк. Некоторые спорные и нерешенные вопросы истории славянских народов в раннефеодальный период (VII — XI вв.). «Материалы первого координационного совещания по актуальным проблемам славяноведения» (КСИС, № 33—34). М., 1961, стр. 105—112; он же. Некоторые общие закономерности раннефеодальной истории восточных и западных славян. КСИС, № 39, 1963.
24
![]()
описаны — в виде ряда «типических» ситуаций — отношения между местным властителем и прочими светскими и духовными феодалами, их женами, слугами и др. Хотим мы того или не хотим, но в этом случае за номинал, за исторический эквивалент эпосу будут приняты ситуации из хроник и летописей. А между тем отождествлять историю народа с историей, запечатленной на страницах письменных памятников, не следует. Эпос глубже, шире и совсем в другой форме, нежели это наблюдается в письменных памятниках, отражает историю народа.
Эпический подход, к историческим событиям и эпический отбор фактов и ситуаций далеко не совпадают с работой летописца.
Как известно, в русской науке, особенно в связи с распространением методов исторической школы, долгое время преобладало стремление отождествить эпос и письменные источники [16]. Отсюда непроизвольно возникали последующие логические операции: если, например, эпос умалчивал о каком-то историческом событии, а в письменных памятниках оно более или менее сюжетно описывалось, то отсюда делался вывод, что в памятник проникла эпическая песня. Многочисленные случаи натяжек прочно утвердились в науке, вошли в учебники, художественную литературу и т. п. Примеры критического, обусловленного тщательным анализом отношения к упрочившимся отождествлениям эпических и летописных героев пока немногочисленны.
Южные славяне не располагают, как восточные, столь богатым письменным наследием, а некоторые письменные источники по их отечественной истории, вероятно, до сих пор еще не привлекались для изучения истории эпоса. Видимо, в значительной мере поэтому, а также в силу обилия эпических сюжетов по сравнению со скромным набором сюжетов в письменных памятниках тенденция отождествлять южнославянские эпосы с хрониками почти не получила развития.
Чаще заметны опыты разыскания исторических прототипов для эпических героев. Охотнее же всего ученые используют сведения из письменных источников как доказательство древности южнославянского фольклора вообще и эпической поэзии в
16. Н. Л. Бродский, Н. А. Гусев, Н. П. Сидоров. Русская устная словесность. Темы. Библиография. Программы для собирания произведений устной поэзии. Л., 1924, стр. 72 (библиография дореволюционных работ); Р. С. Липец. Эпос и древняя Русь. М, 1969, стр. 29—34 (последний по времени обзор работ).
25
![]()
частности [17]. Этими свидетельствами Й. Иванов определяет даже оригинальность болгарских юнацких песен [18]. По мнению П. Поповича [19], Д. Суботича [20] и других ученых, косовский цикл песен — позднего происхождения потому, что чем моложе письменные источники, тем больше в них говорится о Косовской битве: постепенно развивалась косовская легенда в письменности, а вместе с нею и развивались песни. Расположив письменные свидетельства о бытовании сербо-хорватского эпоса в хронологическом порядке, Д. Суботич приходит к выводу, что возникновение эпической поэзии у сербов и хорватов связано с эпосом Западной Европы, который проникал к ним оттуда через Дубровник. Каким образом произошло заимствование, он не знает, однако отсутствие письменных свидетельств о бытовании эпоса до XVI в. и наличие связи Рагузы с Италией и Испанией, начиная с этого времени, служат для него несомненными аргументами в пользу заимствования [21]. Британцы Чэдвики полагают, что бугарштицы старше песен с 10-сложным размером (десетерац), так как они известны по письменным источникам с 1556 г., а песни с десетерцем — лишь с конца XVII в. [22] С. Скенди убежден, что исторические сведения более важны, нежели сравнение вариантов и версий, ибо сравнение дает неопределенные представления о возрасте песен [23]. Больше того, С. Скенди категорически возражает против сопоставления песен разных народов по причине неравномерного исторического развития этих народов [24], т. е. по той самой причине, по которой и возможно расположение песен в эволюционном порядке.
Вера в хронологическую и фактическую достоверность письменных источников сопровождается недоверием к фольклорному
17. Н. И. Кравцов. Сербский эпос и история. СЭ, 1948, № 3; А. Балотэ. Исторические источники (XII—XIV вв.) о древности и происхождении южнославянской эпической поэзии. «Romanoslavica», t. II, Bucureşti, 1958; X. Поленаковиќ. Најрани бележења на македонски народни песни. «Културен живот» (Скопје), 1966, № 2—3, и др.
18. Й. Иванов. Българските народни песни. София, 1959, стр. 215.
19. П. Поповић. Преглед српске књижевности. Београд, 1919, стр. 69—72.
20. D. Subotić. Yugoslav popular ballads. Their origin and development. Cambridge, 1932, р. 74—87.
21. Там же, стр. 143—160.
22. H. M. Chadwick and N. К. Chadwick. The growth of literature, vol. II. Cambridge, 1936, p. 306. Этой логики придерживается и ряд югославских ученых.
23. S. Skendi. Albartian and South Slavic Oral Epic Poetry. Philadelphia, 1954, р. 24—25.
24. Там же, стр. 55.
26
![]()
материалу [25]. В лучшем случае у зарубежных ученых присутствует — наряду с подборкой письменных свидетельств — убежденность в том, что у славян издревле был эпос [26].
Очевидно, что фольклорист (а не археолог, историк, лингвист, литературовед и др.) при изучении фольклора должен отдавать предпочтение именно фольклору и именно в нем искать его историю. После того как уяснено эволюционное положение фольклорных элементов или групп произведений, обращение к нефольклорным, в том числе и письменным, источникам безусловно полезно, поскольку они помогают уточнить полученную картину.
Обращение к письменным источникам важно и тогда, когда отразившееся в них фольклорное явление известно только по материалу соседних народов. Например, упоминания о виле имеются в древнерусских письменных памятниках и после XV в. они исчезают. Отсюда вполне правомерно допущение, что верования в вил перестали быть актуальными для заказчиков и составителей рукописей. А зная, что вера в вил существовала у кашубов и до сих пор сохраняется у южных славян, мы с большим доверием отнесемся к русским источникам и можем считать эти представления общеславянскими по происхождению.
3. О значении исторических реалий
При сравнении славянских эпосов исторические реалии (обувь, одежда, украшения и пр.), описываемые в эпических песнях, дают совсем мало совпадений. Русский богатырь, например, носит только сапоги, а южнославянский юнак может быть обут и в кожаные лапти (цървули). Правда, герои славянских эпосов нередко обладают одинаковым оружием (палица, копье, меч, лук и др.), но самый этот набор оружия был настолько стандартен для многих народов, что на этом основании можно «доказать» общность любых эпосов. Другое дело — термины, которыми называлось это стандартное оружие у славян.
25. Например, В. Карбусицкий (V. Karbusícký. Neistarši pověsti české. Praha, 1966), пытаясь восстановить древний чешский эпос, пользуется хроникой Козьмы Пражского, привлекает письменные источники соседних народов и почти совсем избегает опираться на фольклор чехов и соседних славян.
26. В этом плане характерен ряд работ С. Матича (С. Матић. Наш народни еп и наш стих. Нови Сад, 1964). Считая, что от древней эпической поэзии не осталось ничего, кроме эпического размера (десетерац) и гусель, С. Матич (стр. 244—245) предлагает искать следы «исчезнувшего» эпоса в древней литературе, в «биографиях» разных исторических деятелей. С. Матич (стр. 125) убежден, что литературу, «народный эпос сопровождает почти как тень».
27
![]()
Термины эти тоже одинаковые, и вот это-то обстоятельство побуждает говорить о том, что славяне познакомились с этим оружием еще до эпохи окончательного своего расселения. Лингвистическая общность терминов в данном случае имеет значимость, тогда как оружие, форма которого постоянно менялась, оружие, которым пользовались славяне и на протяжении средневековья, значения исторической реалии по существу не имеет.
Что же касается описания картин природы, флоры и фауны, то в этом отношении совпадения по славянским эпосам обнаруживаются едва ли в большей степени, чем совпадают между собой природные условия русского Севера, украинских степей, балканских гор и других районов расселения славян.
Значение исторических реалий в эпосе крайне преувеличивалось и преувеличивается до сих пор многими учеными, правда, теперь уже в основном не фольклористами, а представителями смежных наук. Чтобы разобраться в сущности используемой при этом методики, покажем лишь два примера.
Считая временем сложения былин эпоху Киевской Руси, Р. С. Липец и М. Г. Рабинович [27] используют почти исключительно тексты, записанные в районах новгородской колонизации. При этом они не всегда дают нижнюю и верхнюю даты упоминаемых в былинах видов оружия; для них достаточно, если это оружие было известно в Киевской Руси. Поэтому они не учитывают, что палицы, топоры и ножи служили оружием как до эпохи Киевской Руси [28], так и после нее. Особенно это сказывается при рассмотрении ими вопроса о сабле и мече в связи с упоминанием этих видов оружия в былинах. Авторы заключают, «что былины, во всяком случае так называемого киевского цикла, могли быть сложены в Киевской земле (наличие сабли), но воспоминания о мече, живые в северных русских землях, могли долго сохраняться там и в былинных текстах, когда на юге меч уже был забыт» [29]. При этом, как видно, из поля зрения упущены те факты, что сабля окончательно вытеснила меч в эпоху Московского государства и продолжала оставаться боевым оружием вплоть до наших дней. А это значит, что для певцов былин сабля оставалась понятным и естественным оружием богатырей.
Ориентацией на Киевскую Русь пронизана и монография Р. С. Липец, несмотря на ее собственные упреки в адрес представителей
27. Р. Липец, М. Рабинович. К вопросу о времени сложения былин (Вооружение богатырей). СЭ, 1960, № 4.
28. Л. Нидерле. Указ. соч., стр. 371—386; К. Moszyński. Kultura ludowa słowian, t. I. Kultura materialna. Warszawa, 1967, str. 392—403.
29. Р. Липец, M. Рабинович. Указ. соч., стр. 36.
28
![]()
старых школ [30], которым будто бы и было лишь присуще аксиоматичное принятие эпохи Киевской Руси за время сложения былин. Логика Р. С. Липец совпадает с логикой ее предшественников: если в эпоху Киевской Руси встречаются такие-то предметы материальной культуры, упоминания о которых имеются в былинах, то тексты с этими упоминаниями относятся ко временам Киевской Руси; чем больше будет сделано таких привязок, тем, следовательно, правильнее общая датировка времени сложения былин. В качестве аргументов Р. С. Липец использует стеклянные окна, «стену городовую», городские ворота, княжеский двор, заморскую торговлю, ростовщичество, ссыпчины и братчины, почти всеобщую грамотность эпических героев, заучивание наизусть гонцами посланий своих владык, посылку письма со стрелой, надписи на чашах, понятие о дружине, побратимство, десятичный счет войска, «разнообразие воинских и хозяйственных должностей, а также обилие слуг» и многое другое, что явно имело место и за пределами эпохи Киевской Руси. Через всю книгу Р. С. Липец проходят слишком яркие картины пиров князя Владимира, однако во всем древнейшем летописании до XV в., по свидетельству Д. С. Лихачева [31], повторяется почти без изменений лишь одно-единственное известие о пире князя Владимира под 996 г. В нем говорится о пире в связи с освящением церкви, поэтому, видимо, Р. С. Липец нигде не приводит его полностью и не рискует «безоговорочно отождествлять» (стр. 125) с былинным пиром. Такие же «функции пира», как обжорство, пьянство, награждение, совет, несомненно существовали и вне пределов эпохи Киевской Руси.
В некоторых случаях Р. С. Липец действительно приводит аналогии, свидетельствующие о том, что реалии, привязываемые ею к Киевской Руси, имели место и раньше; правда, при этом она отдает предпочтение скандинавским, сибирским, среднеазиатским и иным аналогиям, но не славянскому материалу. В других случаях — она обычно бегло и в подстрочных примечаниях — отмечает, что «киевские» реалии существовали и позже, в XIV, XV, даже в XIX и XX вв.
Больше того, Р. С. Липец цитирует мысли А. П. Скафтымова о том, что князь Владимир — собирательный образ (стр. 95) и что пир дает удобную сюжетную завязку для выделения эпического героя (стр. 121—122), и вместе с тем не высказывает своего отношения к этим «антикиевским» суждениям.
30. Р. С. Липец. Эпос и древняя Русь. М., 1969, стр. 19, прим. 2, стр. 135—136.
31. Д. С. Лихачев. Летописные известия об Александре Поповиче. «Труды отдела древнерусской литературы», т. VII, 1949, стр. 39.
29
![]()
Р. С. Липец укоряет С. К. Шамбинаго за то, что он привязывал возникновение былин к XVI—XVII вв. (стр. 172—173), однако все его «заблуждение» состоит только в том, что он пользовался подборкой не «киевских», а «московских» реалий. Методика же Р. С. Липец и С. К. Шамбинаго в сущности одинакова.
Совершенно очевидно, что явления, укладывающиеся в чрезвычайно широкий временной диапазон, никоим образом не служат доказательствами в пользу их исключительного возникновения где-то в промежутке между двумя крайними датами. При рассмотрении какого-то явления, конечно, допустимо искать предельно нижнюю его границу уже хотя бы для того, чтобы знать его истоки, однако для его датировки необходимо учитывать только самую верхнюю границу, время, после которого явление исчезает. Поэтому многие реалии в эпосе вообще не должны учитываться при датировках эпических песен, так как они были актуальными и известными певцам в момент записи.
При таком подходе огромное значение приобретает необходимость показывать развитие взятых реалий, различные и вполне определенные качества одного и того же явления, последовательную смену его качеств, а именно по конкретному качеству реалии можно давать ее однозначную датировку [32]. В этом плане работа над историческими реалиями в эпосе, насколько нам известно, еще не проводилась.
Следует отметить и то, что до сих пор существует чрезвычайно статичное представление об исторических реалиях в эпосе. На наш взгляд, к ним можно относить лишь те элементы эпоса, которые выдержали проверку с помощью названного подхода, т. е. развитие которых удалось выявить. В широком же смысле историческим является весь текст любой эпической песни от первого слова до последнего, его стихотворный размер и ритм, его поэтика, повествование, выраженный в нем уровень эпического мышления. Эпическая песня — это продукт многих эпох, и наша задача — раскрыть ее историческое развитие, сколь долгим или коротким оно ни было, независимо от наших увлечений какой-то одной минувшей эпохой.
4. Эпические имена, герои и циклы
Совпадения имен героев в славянских эпосах носят региональный характер. Вследствие бытования одинаковых песен или песен об одних и тех же исторических лицах совпадают имена
32. Ср. значение видов, рисунка и материала керамики для датировки археологических культур.
30
![]()
некоторых героев южнославянских эпосов. По этой же причине общими героями мораван, поляков, словаков и украинцев являются разбойники Ондраш, Яношик и др. Фигурирование имен Журилы и Олексия Поповича в украинских думах давало лишний повод некоторым ученым полагать, будто эти имена сохранились в думах со времен существования общего для всех восточных славян, но пока еще не реконструированного эпоса. В ряде случаев имеют место совпадения христианских имен героев в произведениях различной жанровой и этнической принадлежности, однако христианские имена, равно как и имена святых в соответствующих произведениях, несомненно выглядят поздним признаком, и поэтому им не следует придавать особого значения.
Многие ученые воспринимают эпические имена так же, как исторические реалии, и стремятся отыскать для песенных героев с этими именами «исторический прототип», которым может оказаться в принципе любое историческое лицо, чье имя совпадает с песенным героем. При этом не всегда подыскиваются, помимо имени, и сведения о каких-либо сходных деяниях «исторического прототипа», эти сведения могут подменяться домыслами и натяжками [33]. Живучее представление исторической школы о том, что народ [34] воспевал исключительно феодалов, при таких разысканиях служит руководящим правилом.
На наш взгляд, при оценке эпических имен нельзя игнорировать изменчивость их значений и не учитывать законов изменения собственных имен в славянских языках. Интересно, что именно в годы господства исторической школы в русской фольклористике некоторые ученые [35], знакомясь с письменными
33. До сих пор ходячим является представление, будто в былине «Добрыня и змей» отразилось крещение Руси, хотя сведения о роли какого-либо Добрыни в этом акте отсутствуют, а сюжет былины к крещению Руси отношения не имеет.
34. Даже ýжe — только дружина, «младшая дружина» (Р. С. Липец. Указ. соч.), скоморохи, бродячие слепцы-профессионалы и т. п.
35. Л. Балов. К вопросу о древнерусских некалендарных именах. ЭО, 1893, кн. XVIII; он же. О древнерусских «некалендарных» именах. ЖС, 1901, вып. 3-4; Г. Г. Гинкен. Древнейшие русские двуосновные личные имена и их уменьшительные. ЖС, 1893, вып. 4; А. И. Соболевский. Заметки о собственных именах в великорусских былинах. ЖС, 1890, вып. 2; А. И. Соколов. Русские имена и прозвища в XVII в. «Известия ОАИЭ при Казанском университете», т. IX, вып. I. Казань, 1891; Н. М. Тупиков. Словарь древнерусских личных собственных имен. «Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества», т. VI. СПб., 1903; [Н. Н. Харузин] Н. X. К вопросу о древнерусских «некалендарных» именах. ЭО, 1893, кн. XVI; он же. Несколько слов к вопросу об употреблении некалендарных имен наряду с церковными. ЭО, 1893, кн. XIX; он же. К вопросу о некалендарных именах. I. Русские некалендарные имена в Воронежских десятнях 1621—22 и 1632 гг. ЭО, 1894, кн. XXI; Я. Чечулин. Личные имена в писцовых книгах XVI в., не встречающиеся в православных святцах. «Библиограф». СПб., 1890, № 7-8. Еще раньше ценную сводку славянских собственных имен опубликовал М. Я. Морошкин в книге «Славянский именослов или собрание славянских личных имен в алфавитном порядке» (СПб., 1867).
31
![]()
документами XV—XVII вв., обнаружили, что упоминавшиеся в них бояре, дворяне, стрельцы, казаки, купцы, посадские люди, крестьяне носили имена, совпадавшие с именами героев русских былин. Эти имена не фигурируют в православных святцах; помимо такого «некалендарного» имени человек носил и христианское имя. Было также замечено, что к концу XVII в. «некалендарные» имена превращаются в прозвища и совсем исчезают.
Это явление, вообще-то говоря, не было открытием, о нем знали и в XVIII в. [36], однако его не заметили или им пренебрегли фольклористы. К числу «некалендарных» имен, существовавших в XVI—XVII вв. на всей территории России, относились, например, следующие: Богатырь, Буслай (Буслав), Волга, Волк, Волынец, Дракон, Добрыня, Дунай, Душан, Дюк, Ермак, Залешанин, Казарин, Кобяк, Макоша, Мамай, Микула, Мурза, Муромец, Мурин, Ногай, Окул (Окула), Путята, Рахман (Рахманин, Рахманко), Салтык, Севрин (Севрюн, Севрюк, Шаврук), Селянин, Скуратко, Смородина, Собака, Сокол, Соловей, Сотко (Садошка), Суровец, Сухан (Суханка), Троян, Тороп (Торопец), Тугарин, Татарин, Хотен (Хотей, Хотко), Чернава, Чурило (Чур, Чура, Щур, Щурка), Щаплыга, Щелкан, Щепельник. Уже в конце XIX в. ученые отмечали наличие некоторых сходных имен у сербов, поляков (например, Добрыня) и других славян, что можно подтвердить некоторыми примерами из словаря болгарских собственных имен: Богослав, Будимир, Владимир, Вуко (и производные), Вукослав, Вълко (и производные), Добри (Добрина, Добрин, Добряна, Добрил и др.), Дуко (Дучо), Змейо, Куман (Коман), Сада (Садьо, Сатко, Сайо, Сайко), Светослав, Сенеслав (Сеслав), Сокол, Татар, Троян, Угрин (Угърче), Чура (Чурица, Чурка), Ярослав [37].
Подобные случаи бытования «эпических» имен с лингвистической точки зрения невозможно объяснить влиянием эпоса. Напротив, они попадали в эпос благодаря определенным своим значениям, носившим жизненный характер. Очевидно, что этим
36. В. В. Крестинин. Исторический опыт о сельском старинном домостроительстве Двинского народа в севере. СПб., 1785, стр. 8.
37. Г. Вайганд. Българските собствени имена. София, 1926. В числе общеславянских собственных имен, подтверждаемых письменными источниками, М. Я. Морошкиным приведены: Богуслав, Будимир, Владимир, Волк (и множество производных), Всеслав, Годин, Добри (и производные), Дунай и др.
32
![]()
именам присуща нарицательность, с обобщенным указанием на определенное качество (нравственное, физическое и т. п.), на родовую (шире — этническую) принадлежность, на звание или род занятий. Имя должно было соответствовать представлениям о человеке и наиболее сжато выражать их. Поэтому у многих народов, включая славян, был обычай несколько раз менять имя в течение жизни.
Помимо письменных источников XV—XVII вв., о нарицательном значении русских «эпических» имен свидетельствуют и географические названия, отразившие имена типа Добрыня [38], Чурила [39], Дунай, Святогор и др.
В связи с этим необходимо иначе отнестись и к «историческим прототипам» героев русских былин. С домонгольской Русью летописи связывают по крайней мере семь Добрынь: в сведениях по X в. упоминается несколько раз Добрыня, дядя Владимира I Святославича; по XI в.— Добрыня Рагуилович, воевода новгородский; по XII в.— новгородский посадник Добрыня, киевский боярин Добрынка и суздальский боярин Добрыня Долгий; па XIII в.— Добрыня Галичанин и Добрыня Ядрейкович, архиепископ новгородский. Выбор достаточно велик, диапазон времени — почти четыре столетия, и теоретически нельзя исключать никого из этих «прототипов» или сводить всех Добрынь к первому из них, как это часто делается. Былинный Добрыня может быть связан с эпохой Владимира лишь благодаря отдаленной перекличке песни «Женитьба князя Владимира» и летописного эпизода о полоцкой княжне Рогнеде; этот момент и будет нижней границей для былинного Добрыни, если не привлекать сопоставимые песни о сватовстве и выполнении свадебных задач, песни, обильно представленные у южных славян, и если полагать, что в древнерусской истории ни до, ни после эпизода с Рогнедой подобных событий не было и не могло быть. Отсюда нетрудно понять условность определения нижней границы эпического факта по «историческому прототипу». Такими прототипами для былинного Добрыни [40] опосредованно должны были быть многие и многие поколения людей, постепенно и по-разному обобщавших в эпосе свою практику путем создания этого образа.
Сказанное относится и к былинному князю Владимиру. Судя по летописям, в русской истории с X по XVI в. было около
38. 26 местных названий в 10 губерниях (А. И. Соболевский. Указ. соч., стр. 93—94).
39. 60 местных названий в 19 губерниях, включая Седлецкую (там же, стр. 195—196).
40. Кстати, сравним с ним Дубыню, Горыню и Усыню, помогающих сказочному герою пройти через предбрачные испытания.
33
![]()
40 князей, носивших это имя. Они владели разной величины уделами и княжествами, память о них была долгой или короткой, однако сомнительно, чтобы у народа каждый раз возникала потребность сложить в честь очередного Владимира особую песню. Только о трех из них долго хранилась память и в летописях: в XVI—XVII вв. еще встречаются упоминания о Владимире I, Владимире Мономахе и Владимире Ярославиче, новгородском князе (1020—1052 гг.). Естественно, что исследователи видят в X в. самую нижнюю границу для датировки былинного Владимира, ибо ранее X в. князья с таким именем неизвестны [41], а эпоха Владимира I с давних пор рисуется в романтической дымке, с ореолом идеализации, как символ русского единства и русской независимости. По свидетельству Д. С. Лихачева, «такой взгляд на Киев и на князя Владимира I Святославича является чрезвычайно распространенным взглядом для конца XIV—XV вв. Он проявляется в летописи, в политике, даже в живописи и архитектуре, подражающих формам и сюжетам домонгольской Руси» [42]. И далее Д. С. Лихачев пишет: «Представление о единстве Руси в эпосе, выражавшееся в идеализации Киева и ее князя Владимира, развивалось параллельно реальному объединению русского народа, собираемого властной рукой московского великого князя» [43]. Отсюда у Д. С. Лихачева следует убедительный вывод, что былины так называемого Владимирова цикла нужно связывать с эпохой образования централизованного Московского государства [44].
Былинный князь Владимир с его многозначным именем, конечно, обобщает русских властителей, независимо от их имени. В ,нем выражены народные представления и о том, каким должен быть правитель. Реальные представления о правителе и идеальные представления, в какой бы комбинации они ни представали в каждом данном тексте, невозможно возвести к эпохе Владимира I. Нужно было иметь большой исторический опыт, пережить и междоусобицы, и иго, чтобы сложились такие представления. Поэтому вполне правомерно датировать оформление былин Владимирова цикла по верхней границе, эпохой Московского государства, когда активное культивирование первых русских князей еще могло получить поэтический отклик в народе.
41. Хотя, если быть последовательным представителем исторической школы, такую возможность никак нельзя исключать.
42. Д. С. Лихачев. Указ. соч., стр. 49; см. также стр. 38—39.
43. Там же, стр. 50.
44. Он, правда, делает оговорку о возможности начала циклизации в XI в., но эта оговорка снимается его же собственной аргументацией.
34
![]()
Оформление цикла неизбежно сопровождалось какими-то. издержками и изменениями. Последний этап бытования «некалендарных» собственных имен явно не случайно совпал по времени с переменами в эпосе. «Некалендарные» имена уходили из жизни, но закреплялись в эпосе. По-видимому, в это время еще помнили „старую семантику имен и отождествляли определенное имя с определенным героем.
Большую работу по выявлению значений русских эпических имен проделала Т. Н. Кондратьева [45]. Особенно ценно, что она Прослеживает изменчивость семантики имен, связь значения имени с образом героя, который это имя носит. В ее книге постоянно подчеркивается нарицательный характер эпических имен, что вполне coглacyетcя с нашими наблюдениями. «Вечное стремление к обобщению» — вот, по ее мнению, тенденция в употреблении имен в эпосе; эта тенденция подтверждается и нарицательным характером эпических героев.
В пору оформления былин Владимирова цикла герои по-прежнему были нарицательными, однако уже, вероятно, произошло закрепление определенной роли за каждым героем, чье имя, как показывает Т. Н. Кондратьева, также было значимо для роли. Так, мать героя — обычно Мамельфа Тимофеевна, Василиса (ср. сказки)—жена героя, Настасья — жена, реже дочь или сестра героя, Владимир — князь [46], Апракса — жена князя, Запава Путятишна — племянница князя, Маринка — злодейка, колдунья и отравительница и т. д. Все русские богатыри наделены определенной ролью. В русле тенденции закрепления ролей за героем с определенным именем и как вершина этой тенденции выступает индивидуализация героев. Достаточно назвать Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича, как сразу отчетливо ощутится разница между ними и другими эпическими героями (Потык, Дунай, Василий Пьяница и др.), у которых выделены только функционально необходимые качества, нарицательные и перекликающиеся только с семантикой имени. Вряд ли поэтому выглядит случайным то, что об эпическом Илье Муромце первые сведения датируются XVI в., а о летописном Александре Поповиче, несмотря на усиленные разыскания Д. С. Лихачева, нет никаких упоминаний в древнейших списках до XV в. Былинный Алеша Попович резко отличается от летописного своей индивидуализацией и социальной характеристикой. Летописные известия об Александре Поповиче,
45. Т. Я. Кондратьева. Собственные имена в русском эпосе. Казань, 1967.
46. Функциональное назначение былинного Владимира удачно показано А. П. Скафтымовым в книге «Поэтика и генезис былин» (Саратов, 1924, стр. 112—118).
35
![]()
независимо от оценки их по источнику происхождения, рисуют стадиально более раннего, чем былинный, героя.
Последовательность смены типа героя — героя нарицательного, того же героя с определенной ролью, индивидуализированного героя — имеет большое значение для понимания эволюции эпических песен. Этой последовательностью обозначается постепенность выделения героя из коллектива, постепенность смены народных представлений о соотношении личности и коллектива. Но наряду с такой последовательностью существует и неразрывно с нею связанная, неизменно сохраняющаяся традиционная тенденция подчеркивать нарицательность героя. Собственно без нее немыслим фольклоризм произведений, ей подчиняются постоянные включения исторических имен в эпос, и даже на этапе отмирания эпоса замена героев с традиционными эпическими именами нарицательными богатырями, молодцами, казаками, девушками и др. обусловлена той же тенденцией. С нею связана и безоговорочная вера певцов в реальность эпических событий.
Индивидуализацию эпических героев, конечно, не следует преувеличивать. Она выражается главным образом в том, что герою приписывается не одна, а несколько эпических функций (деяний), ранее присущих различным героям. В этом и заключается смысл циклизации песен вокруг одного эпического героя. Многоплановость и индивидуализация такого героя, если пренебречь позднейшими мотивировками, целиком соткана из традиционных нитей; каждая из нитей — одноцветна, но все вместе они образуют многоцветную красочную картину. Последним пределом циклизации песен вокруг одного героя являются попытки певцов (а чаще — уже рассказчиков) свести в один текст все известные им произведения об этом герое [47].
Сходные явления обнаруживаются и в южнославянских эпосах. Там без труда можно найти множество героев со стандартным по своей этнической принадлежности набором имен. Эти герои — сугубо нарицательны, их подвигам свойствен оттенок будничности, повседневности, а не исключительности, но по
47. Так, в 1957 г. в дер. Пильмасозеро (Пудожский р-н, Карелия) автору этих строк довелось записать от Ф. А. Шабанова контаминацию в семь эпических сюжетов об Илье Муромце. В 1958 г. на Кенозере (Приозерный р-н, Архангельская обл.) обнаружилось, что три былины о Добрыне Никитиче ранее певшиеся там порознь, теперь поются как один текст. Естественно, что в контаминациях этого рода художественные достоинства каждого сюжета приносятся в жертву общей канве повествования. По подсчетам А. М. Астаховой, свыше 57% контаминаций приходится на былины об Илье Муромце и Добрыне Никитиче (А. М. Астахова. Русский былинный эпос на Севере. Петрозаводск, 1948, стр. 98).
36
![]()
содержанию их подвиги — те же, что и подвиги русских эпических героев, чаще, однако, наделенных определенной ролью или индивидуализированных. Например, Стоян, конкретный исторический прототип, которого мы безуспешно разыскивали бы в письменных источниках, между тем по своей популярности отнюдь не уступает «историческому» Марку Кралевичу. В обзоре А. Димитровой и М. Янакиева [48], судя по именному указателю, за именем Стояна закреплено 122 песенных сюжета: даже это число сюжетов по своему удельному весу выше в репертуаре одной южнославянской ветви (болгар, болгар-мусульман и македонцев), чем удельный вес 12 былин об Илье Муромце в русском репетуаре. Однако составители обзора занизили это число сюжетов. Если с именем Марка Кралевича они связали и песни, и прозу любой жанровой принадлежности, включая тексты, в которых Марко выступает не только в роли королевича (всего 265 номеров), то с именем Стояна они связали почти исключительно песни о разбойнике, хайдуте или воеводе. Любопытно, что даже при таком ограничении составители называют не более не менее, как 12 Стоянов, живших в диапазоне двух веков; с этими «историческими лицами» составители и предлагают связывать песни о Стояне [49]. В другом обзоре песен, судя по именному указателю, соотношение песен о Стояне и о Марке почти противоположно: из 2669 сюжетов с именем Стояна связывается 249 сюжетов песен любой жанровой принадлежности, с именем Марка — только 148 [50]. Песни о Стояне, пожалуй, никто не рискнет назвать циклом, так как имя его столь же конкретно, сколь конкретно, например, имя Ивана в русских сказках или шире — имя данного народа.
Нарицательность героев особенно заметна в болгарском эпосе. За исключением Марко Кралевича и Момчила, другие исторические имена местных феодалов (например, последних Шишмановцев) довольно редко и глухо упоминаются в произведениях, находящихся на эпической периферии. Это обстоятельство до сих пор служит для ряда ученых одним из поводов говорить о бедности болгарского эпоса, даже о его зависимости от сербохорватского эпоса. Аналогичное явление в других славянских эпосах при этом, естественно, игнорируется. В сербохорватском эпосе действительно больше «исторических» имен, однако
48. А. Димитрова, М. Янакиев. Предания за исторически лица в българските народни умотворения. «Известия на Семинара по славянска филология», кн. VIII, IX. София, 1948.
49. Там же, стр. 525.
50. «Преглед на българските народни песни». «Известия на Семинара по славянска филология», кн. V и VI. София, 1925—1929.
37
![]()
они обычно встречаются либо в поздних, и, как считают, книжных по своему происхождению песнях (о Неманичах, Косовской битве), либо присутствуют в произведениях, сюжеты которых («Построение Скадра» и многие другие) возникали явно раньше хронологической границы, определяемой по «историческому прототипу». К настоящему времени работа по идентификации южнославянских эпических героев с историческими личностями почти полностью прекратилась. Ученые, занимавшиеся ею, в один голос говорили о смещениях, анахронизмах и путанице в эпосе, совершенно не замечая, что за всеми этими «антиисторичными»явлениями в эпосе скрываются очень определенные закономерности: последовательная смена типа героя, связанное с нею изменение значения и функции эпических имен, привлечение исторического имени с целью подчеркнуть его обобщенную значимость и др. Учет эпических закономерностей совсем не исключает полезность разыскания эпических имен в нефольклорных источниках. Напротив, именно с учетом законов эпоса и окажутся плодотворными подобные разыскания, поскольку они могут служить относительным хронологическим ориентиром, позволяющим уточнить последовательность возникновения эпических версий.
Помимо сугубо нарицательных героев, в южнославянских эпосах встречаются также и такие, за которыми певцы стремятся закрепить определенный сюжет или определенную версию сюжета. Например, за различными сюжетами об отношениях героя и его жены закрепляются имена: Момчил, Груя, Банович Страхиня и др. Существует, как показывают исследователи [51], довольно большой набор постоянных эпических имен, связываемых с определенной ролью: мать героя — обычно Ефросима (Евросима); жена или сестра героя — Ангелина, Елица; корчмарка — Мара; девушка, прислуживающая на пиру юнаков,— Яна; султан (царь) — Мурад, Баязид или Сулейман; царь — Костадин; брат Марка Кралевича — Андреяш; неизменные соратники Марка Кралевича — Реля Крилатица (Реля Шестокрила), Янко Сибинянин и Янкула-воевода; племянник Марка Кралевича — дитя Груя; чужеземная девушка — Арватка, Айкуна и т. д. С. Матич отмечает, что в сербо-хорватском эпосе Йован — обычное имя юноши или мальчика, Павле — частое мужское имя с географическим эпитетом (Зећанин, Брђанин и др.), Михайло — имя чужого короля (болгарского, дубровницкого и др.), Сава — имя игумена или патриарха и т. д.
51. С. Матич. Указ. соч., стр. 187; Н. И. Кравцов. Сербский эпос и история, стр. 100.
38
![]()
Единой для всех южных славян является циклизация песен, связываемых с именем Марка Кралевича [52]. Судя по обзору А. Димитровой и М. Янакиева, из 1551 сюжета, посвященного «историческим лицам», с именем Марка Кралевича связывается, как упоминалось, 265 сюжетов песен любой жанровой принадлежности, сказок и преданий, или приблизительно 17% учтенного составителями репертуара. Правда, А. Димитрова и М. Янакиев смешивают такие понятия, как сюжет, версия и вариант, поэтому число действительных сюжетов о Марке Кралевиче ими завышено. Они также не различают определений, сопровождающих имя героя. Даже определения «кралевич» и «добър юнак», видимо, не для всех эпических песен можно признать взаимозаменяемыми. Цикл песен о Марке Кралевиче несомненно следовало бы ограничить определенными рамками, потому что в сюжетных песнях встречаются не только Марко-королевич или хотя бы Марко-юнак, а также Марко-возница и Марко-змей (!), Марко-мастер и Марко-разбойник, Марко-пастух и Марко-прасол и т. д. Очевидно, что не во всех случаях упоминание одного имени необходимо связывать с Марком-королевичем. Как и в отношении имен русских героев, всеобщая распространенность и нарицательность имени в данном случае послужила причиной для его проникновения в эпос. Совпадение с именем одного из последних славянских королей послужило поводом для закрепления за ним некоторых традиционных эпических песен (например, песни о захвате его жены Миной или Беле из Костура). Его роль турецкого вассала и двусмысленное положение в связи с этим дали толчок возникновению и новых песен [53]. Марко-королевич, конечно, должен был пройти все ступени развития эпического героя, прежде чем достигнуть последней стадии — индивидуализации. Однако при этом певцы стремились приписать любимому герою едва ли не все те эпические деяния, которые ранее связывались с иными героями. Образ Марка-королевича становился всеобъемлющим (отсюда и противоречивость его образа), универсальным и тем самым его индивидуальность во многих произведениях стала растворяться и исчезать. Чрезмерная циклизация песен приводит к отрицанию индивидуализации героя, к превращению его снова в нарицательного, наподобие Ивана, Стояна, Добри и других, единое конкретное содержание имен которых — сам народ.
52. Из локальных циклов, пожалуй, наиболее выделяется только боснийский о Муйо. Другие местные циклы, связываемые учеными с одним героем, например Момчилом, по существу ими не выглядят.
53. Например, «Марко пьет вино в рамазан», «Марко и три цепи пленников».
39
![]()
Серьезный методологический просчет ученых старых школ заключался как раз в том, что они при рассмотрении южнославянских эпосов ориентировались на цикл о Марке Кралевиче, не обращая внимания на такие же песни без упоминания этого имени. Нарицательные герои для них по существу были вне- или антиисторичными и потому не заслуживали доверия. С нашей же точки зрения, упоминание Марка Кралевича в песнях, чьи версии известны и без этого имени, а параллели к которым обнаруживаются у восточных славян, является поздним признаком. Любопытно, что начало циклизации песен о Марке Кралевиче, если судить по свидетельствам XVI в., по времени приблизительно совпадает с письменными упоминаниями об Илье Муромце и Александре Поповиче, упоминаниями, которые выше были объяснены тоже как начало аналогичного процесса. Это в свою очередь позволяет допускать, что в некоторой своей части эпосы южных и восточных славян в то время развивались одинаково и довольно равномерно.
5. Эпические центры и эпическая иерархия
В славянских эпосах отсутствуют общие эпические центры. У русских таким центром бывает преимущественно Киев, внешний эпический центр по отношению к районам бытования эпоса. У южных славян нетрудно выявить множество эпических центров, из которых предпочтение отдается все же Цариграду (Стамбул), Будиму (Буда) [54], Валахии, Солуни (Салоники), Косову полю и Прилепу. Все они, кроме Прилепа, несомненно также внешние эпические центры для всех районов бытования южнославянских эпосов. Появление же Прилепа в качестве эпического центра, кстати тоже внешнего по отношению к другим южнославянским районам, кроме Македонии, легко объясняется тем, что он был владением Марка Кралевича, ставшего популярнейшей фигурой в эпосе южных славян. Отличие Прилепа от Киева весьма существенно: район Киева известен науке только как внешний эпический центр, тогда как Прилеп вместе с тем известен и как важный район бытования эпоса. У украинцев скорее подразумевается, нежели реально присутствует в эпосе, Запорожская Сечь, опять-таки внешний эпический центр по отношению
54. Впрочем, К. Пенушлиски сообщает, что, по народным преданиям (они, к сожалению, не приведены), Будим-град якобы находился на левом берегу р. Брегалницы в Беровском районе Македонии (К. Пенушлиски. Современата состојба на македонската епска традиција. «Реферати на македонските слависти за VI Мегународен славистички конгресс во Прага». Скопје, 1968, стр. 108).
40
![]()
к существовавшей украинской этнографической территории. У западных славян при их скромном сюжетном репертуаре и очевидном отсутствии больших сюжетных песен не существует и эпического центра. В прозаических произведениях о знаменитых разбойниках — у словаков о Яношике, у западных украинцев о Довбуше — иногда упоминается Вена.
Попытку М. Г. Халанского [55] сблизить русский былинный Леденец (Веденец) с южнославянским эпическим Легян (Леджан) — городом и таким образом обнаружить общий эпический центр можно оценить лишь как очень сомнительную. Дело даже не в том, что существовали попытки других ученых связать Легян-город с южнославянской действительностью и локализовать его в Македонии [56]. Здесь опять-таки речь должна идти о понимании историзма эпоса, его изменчивости и его обусловленности историей народа.
Зная одно только место эпического действия, можно догадаться, какие эпические события могут быть с ним связаны. Эпических мест действия сравнительно немного:
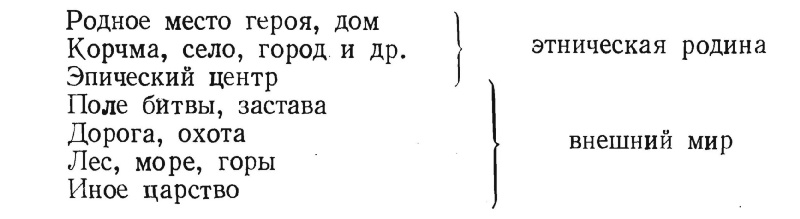
С домом связываются не только представления о месте рождения героя. У южных славян этнический противник очень часто нападает именно на дом героя [57]; если герой индивидуализированный, то с этим обязательно связан его первый подвиг. С домом связываются многочисленные истории о нарушениях народных норм быта (баллады). В доме южнославянский герой получает известие о похвальбе какого-то этнического противника, приглашение на свадьбу, просьбу о помощи, приказ царя (султана).
55. М. Г. Халанский. О некоторых географических названиях в русском и южнославянском героическом эпосе. РФВ, 1901, № 1-2. Ср.: Т. Н. Кондратьева. Указ. соч., стр. 191—193.
56. А. П. Стоилов. Леген-град в югославянската народна поезия. «Периодическо списание на Бълг. книжовно дружество в София», т. XIV. София, 1904; Ж. Младеновић. Топографски елементе народне песме «Женидба Душанова». «Трећи конгресс фолклориста Југославије у Црной Гори». Цетиње, 1958.
57. Ср. немногие русские произведения типа «Князь Роман и Марья Юрьевна», «Девушка пытается укрыться от крымского хана».
41
![]()
Из дома южнославянский герой выезжает на поиски сестры или брата. Наконец, в доме герой рассказывает матери о событии, приключившемся с ним во внешнем мире.
Родное место героя, дом — на наш взгляд, конечно, первичное представление о своей этнической родине. У героев был дом и тогда, когда еще не возникла государственность. Затем это первичное представление о своей этнической родине стало лишь частичкой более широких представлений. Чем шире представления об этнической родине, тем больше мест действия могло с нею отождествляться или ее составлять: дом, праздник (собор, игрища, хоровод), село, река (источник, где берут воду), корчма (кабак), церковь, монастырь, город, царство.
В эпосе мы не видим — за исключением дома — таких мест действия, которые можно было бы связывать со всеми типами этнических общностей (род, племя и т. д.). С возникновением государственности дом утрачивает значение места, откуда исходили или где происходили эпические события. Его место занимают эпические центры, олицетворение этнической родины или место, где решается ее судьба. Поэтому бессмысленно искать в славянских эпосах общие эпические центры, ибо представление о них еще не могло сложиться в эпоху крупных миграций славян I тысячелетия н. э.
В южнославянских сюжетных песнях эпическое событие нередко привязывается к местам, очень близким или родным для певца. Эта постоянная тенденция несомненно ведет свое происхождение от представлений, отождествлявших этническую родину с родным местом. Ее никак нельзя считать только поздней, она вполне сопоставима и связана со стремлением воспеть нарицательного героя и его повседневный, обыденный подвиг.
Но наряду с нею отчетливо замечается по песням выделение некоторого множества эпических центров. Судя по их названиям и по эпическим событиям, которые с ними связываются, верхняя граница появления множества эпических центров — средневековье, эпоха феодальной раздробленности. По отношению к дому героя и местам бытования эпоса эпические центры, как правило, внешние, чем и подчеркивается поздний момент их включения. Но они могут быть внутренними, своими этническими по отношению к окружающему, мифическому или историческому внешнему миру. Эпический центр, следовательно, двойствен по своему значению. Из числа эпических центров традиция производит постепенный отбор, появляются постоянные, устойчивые эпические центры. Некоторым из них придается постоянное значение. Так, Косово поле стало устойчивым местом действия, где на фоне только одной эпической битвы сербов и турок
42
![]()
решалась судьба государства и личные судьбы многих героев. Прилеп, столица Марка Кралевича, стал родным его местом, к которому оказалось удобным привязать все возможные песни, начинающиеся с выезда героя из родного гнезда.
Унификацию эпических центров нельзя не соотнести с образованием централизованного государства. В русском эпосе четко выделяются два неизменных эпических центра — Киев с князем Владимиром и «каменна» Москва с царем Иваном Васильевичем. Интересно, что встречаются былины, где упоминаются оба эти центра как одно исходное место действия; имеются и случаи перестановок, когда в Киеве правит Иван Васильевич, а в Москве — князь Владимир. Серьезная работа по выявлению связей всех былинных сюжетов с этими эпическими центрами еще не проводилась, поэтому сейчас рано говорить о хронологической соотносимости этих центров. Впрочем, большинство ученых априорно считает Киев более ранним эпическим центром; случаи же одновременного упоминания центров и их перестановки ими истолковываются как позднее искажение.
В южнославянских эпосах даже в условиях централизации Турецкой империи также определилось направление к унификации эпических центров, к частому употреблению в качестве центра Цариграда (Стамбула), однако оно не успело возобладать. Одну из причин не совершившейся унификации, по-видимому, можно видеть в неодинаковом положении славянских земель по отношению к столице турецкой империи: Стамбул значительно чаще используется как эпический центр в песнях болгар, а также боснийцев по сравнению с черногорцами, хорватами и др. Немаловажная причина этого заключалась также, вероятно, в характере очень многих песен, которые по своему уровню просто не могли быть приспособлены к унификации (ср. «новгородские» былины).
Итак, эпический центр при всех его значениях — последняя ступенька представления об этнической родине и первая — о внешнем мире. Это действительно так, если абстрагироваться и забыть о том, что до возникновения государственности считалось внешним миром. Его, очевидно, составляли лес, вода, горы, поле (степь), небо. В каждой части внешнего мира жили свои мифические или реальные обитатели. Русские герои в любой части внешнего мира встречаются обычно уже с реальными этническими противниками, тогда как южнославянским героям удается встретиться в очень определенных местах (лес, вода, горы) со змеями и вилами. Больше того, змеи, вилы и другие мифические существа частенько посещают и дома героев; они становятся любовниками или женами, подают советы, предостерегают,
43
![]()
делают предсказания. Отголоски подобных отношений слышатся едва уловимо в очень немногих русских былинах.
Славянские эпосы не сохранили какие-либо переходные ступеньки, предшествующие понятию об ином царстве. Представление об ином царстве несомненно — развитие более ранних представлений о реальном внешнем мире. Иные царства в эпосах явно поздние: у русских — Литва, Индейское царство, орда, Казань и др.; у южных славян — Будим, Валахия, Леген-город, Немецкая земля, Арапская земля, Латинское царство, Мисир-город и др. Иные царства — у русских очень редко, у южных славян чаще — также могут быть центрами эпических событий, однако всегда в противопоставлении с эпической родиной. Любопытно, что для татар или турок в текстах, описывающих их нашествия, и в эпосе, подобно письменным памятникам, по существу не показывается их царство. В болгарских песнях об угоне пленников иногда даже употребляется выражение «турска земя незнайна».
В неразрывной связи с формированием эпических центров стоит и возникновение эпической иерархии героев. Русская эпическая иерархия общеизвестна: князь Владимир (царь Иван Васильевич), статисты — «князья да бояре кособрюхие», деятели — сильные могучие богатыри. Состав иерархии меняется лишь за счет включения в перечень других статистов: гостей торговых, крестьян и др. В эпических песнях, где не упоминаются Киев или Москва, эта иерархия отсутствует. Если принять русскую эпическую иерархию за эталон и обратиться к южнославянскому материалу, то там также можно обнаружить сходные иерархии: одна из них связывается с царем Лазарем и Косовом полем, другая — с царем или султаном, правящим в Цариграде (Стамбуле). Поздний характер этих «государственных» иерархий очевиден.
Наряду с ними у южных славян существует и другой тип эпической иерархии, выделяющийся в циклах о Марке Кралевиче и Муйо, а также во многих отдельных песнях. Место эпического владетеля в этом случае занимает хозяин дома (обычно герой цикла), у него собираются гости (юнаки, князья, короли), они получают какое-то известие или требуют от хозяина доставить им на пир свежую рыбу (пенистое вино и др.), спорят об заклад или принимают какие-то решения, и отсюда начинается очередное эпическое повествование. Собравшиеся в доме хозяина не являются только статистами, которым уготовано резонерствовать, поддакивать, молчать или изображать испуг. Они обычно деятели, действующие лица, но каждому из них, помимо равного участия в завязке, назначена такая роль лишь в определенном
44
![]()
сюжете. Эту эпическую иерархию можно назвать богатырской.
Наконец, в южнославянских песнях нередко имеется только зародышевое подобие второго типа иерархии. Например: мать советует сыну не хвалиться своим конем перед турками; сын, естественно, нарушает запрет и хвалится в кофейне (торговых рядах, городе). Или: на пиру в гостях у родственников герой получает известие о чем-то, случившемся дома.
Таким образом, на южнославянском материале можно проследить последовательность возникновения эпической иерархии типа русской. Вместе с тем примечательно, что южнославянская «государственная» иерархия, в отличие от русской, не занимает центрального положения в эпосе.
Важно также отметить, что у южных славян юнаки нередко обладают и функцией феодального владетеля, что не характерно для русских богатырей, у которых неизменно подчеркивается их неродовитость, их положение «служилых людей» при дворе князя Владимира. Отдельные исключения из этого правила — Дюк Степанович, Чурила Пленкович, Соловей Будимирович — лишь подтверждают его. Вместе с тем они позволяют предполагать, что и русские эпические герои некогда могли наделяться функцией феодального владетеля [58].
Характеризуя черты феодализма в южнославянских эпосах, исследователи, пожалуй, единодушно склонялись к тому, чтобы датировать их появление в песнях по крайней мере временем первых турецких завоеваний на Балканах. Не было смысла, писал С. Матич, создавать после падения славянских государств песни во славу и хвалу погибшим, разбежавшимся, поянычаренным или постригшимся феодалам [59]. В данном случае логика С. Матича, придерживающегося теории придворного происхождения эпоса, как это ни странно на первый взгляд, совпадает с нашим мнением. Правда, в наделении героев функцией феодала мы видим лишь обусловленное феодализмом идеализирование. Совпадение же нашего мнения с С. Матичем и другими учеными этого направления вызвано применением нашего принципа датировать явление по верхней его границе. Вместе с тем никак нельзя исключать, что какие-то черты турецкого феодализма или феодализма Венгрии, Австрии и других соседних стран могли получить своеобразное преломление у певцов и
58. Ср. некоторые былины, не входящие во Владимиров цикл, а также баллады и другие (свадебные, обрядовые) песни, где герои часто называются князьями и княгинями; ср. также сказки с упоминанием Ивана-царевича.
59. С. Матич. Указ. соч., стр. 232.
45
![]()
быть отраженными в южнославянских эпосах как феодализм отечественный и идеализированный. Насколько известно, южнославянские эпосы в этом отношении не подвергались серьезной проверке, а ее, конечно, было бы очень полезно провести с помощью историков. И тогда общепризнанную верхнюю границу черт феодализма в южнославянских эпосах, возможно, пришлось бы считать как промежуточную или даже как самую нижнюю.
Что касается русских героев, играющих роль «служилых людей», то в соответствии с нашим принципом их оформление относится к эпохе московских великих князей и царей. Отсюда следует, что эти русские эпические герои — более поздние, чем южнославянские юнаки, совершенно независимые или полузависимые в своих поступках и деяниях от государей. Это — естественный вывод при наличном уровне изучения исторических реалий в эпосе.
6. Типические (общие) места
Широко известно, что русский эпос отличается торжественностью, красочностью, величавостью, пышностью описаний, в связи с чем крайне высок удельный вес так называемых общих мест, которыми певцы свободно оперировали в рамках всего своего сюжетного репертуара. По подсчетам П. Д. Ухова, типические места составляют от 20 до 80% всего текста былин [60]. С. К. Шамбинаго (1913 г.), В. Ф. Ржига (1933 г.) и А. В. Позднеев (1964 г.) отмечали рост удельного веса типических мест, сравнивая записи XVIII, середины XIX и начала XX в. Их наблюдения самым непосредственным образом увязываются с описанной А. П. Евгеньевой тенденцией возрастания числа определений (эпитетов) в былинах [61].
Менее известно, что в южнославянских эпосах поразительна, условно говоря, сухость описания. Торжественность, красочность, частое использование общих мест характерны либо для произведений, поздних по своему происхождению, либо для поздних версий эпических песен. В южнославянских эпосах, как представляется, внимание всецело или преимущественно сосредоточено на действии. Этим, по всей вероятности, в значительной мере объясняются сухость и лаконизм описания, невысокий удельный вес общих мест в составе большинства произведений.
60. Правда, эти цифры требуют уточнений, так как П. Д. Ухов весьма широко пользовался понятием «общее место» и не делал попыток связать удельный вес типических мест со временем записи текстов.
61. А. П. Евгеньева. Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII—XX вв. М.—Л., 1963, стр. 314—338.
46
![]()
Южнославянские певцы как бы торопятся выпроводить эпического героя за ворота его дома или из палат султана, где герою дают поручение; их как будто бы больше, чем русских сказителей, интересуют встречи и поединки героя.
Этим нашим утверждениям не противоречат высказывания многих ученых относительно утилитарности описаний в эпосе.
A. П. Скафтымов совершенно справедливо отмечал, что «былина описывает лишь тогда, когда описание вызвано прямой направленностью рассказа, когда описание нужно непосредственно по самому существу той конкретной задачи, которую ставит себе данный сюжет. Поэтому ее описания всегда относятся прямо к главным лицам рассказа и захватывают непременно только те черты, которые ближайшим образом ведут сюжет» [62]. Несколько сходных замечаний об описаниях в сербо-хорватском эпосе было высказано Н. И. Кравцовым [63]. По существу повторением констатаций А. П. Скафтымова выглядит и мнение B. Я. Проппа [64].
Русские и южнославянские певцы, очевидно, обладали разной мерой понимания необходимости описаний. Видимо, эта мера менялась с течением времени. Идеализация героя, подчеркивание исключительности его эпических деяний сопровождались и идеализацией его атрибутов, предметно-бытовой обстановки, каждого, даже самого незначительного движения героя. Отсюда рост удельного веса и числа типических мест, поскольку лишь с их помощью певец мог выразить торжественность, красочность и героизм исключительных событий. Это также означает, что типические места, подобно другим элементам эпоса и самим песням, тоже менялись с течением времени [65].
Допуская, что типические места — по крайней мере отчасти — являются специфическими образованиями, свойственными для однопорядковых эпосов или эпосов родственных народов, мы решили выявить, какие же именно типические места можно считать общими для славянских эпосов. В качестве источников избраны, с одной стороны, сборники Верковича и братьев Миладиновых и, с другой стороны, сборники Кирши Данилова и Рыбникова. Это — первые записи крупных серий песен различной
62. А. П. Скафтымов. Указ. соч., стр. 90.
63. «Сербский эпос». Редакция, исследование и комментарии Н. Кравцова. Переводы Н. Берга, Н. Гальковского и Н. Кравцова. М., 1933, стр. 134, 148.
64. В. Я. Пропп. Фольклор и действительность. РЛ, 1963, № 3, стр. 66—67.
65. Обзор литературы и характеристику позиций исследователей в отношении типических мест см. в нашей статье «Сходные описания в славянских эпических песнях и их значение» (сб. «Славянский и балканский фольклор» М., 1971).
47
![]()
жанровой принадлежности, сделанные на крайних полюсах расселения славян (Македония и Болгария, Заонежье и Урал), так что говорить о воздействии обеих эпических традиций друг на друга не приходится. В принципе можно взять и любые другие записи, лишь бы они были сделаны более или менее синхронно. Записи Рыбникова, Верковича и братьев Миладиновых сделаны почти одновременно. Сборник же Кирши Данилова, как известно, датируют второй половиной XVIII в., но в данном случае именно он по удельному весу сходных типических мест оказывается сопоставимым с южнославянскими записями.
К числу типических мест мы не стали относить такие части, эпических песен (например, похвальба перевернуть землю, мотив трех птиц у тела убитого), которые играют роль в сюжете, причем, как правило, в сюжетах однотипных произведений. Такие эпизоды в сопоставимых русских и южнославянских песнях по существу представляют собой тот род повторений, которые выходят за пределы определенных текстов лишь на этапе отмирания этих текстов.
Мы не стали учитывать и некоторые типические формулы, хотя это и увеличило бы удельный вес общих мест в русском эпосе. Так, нами не учтено описание седлания коня. У южных славян это описание почти никогда не развертывается, само описание обычно служит моментом действия:
Го поседла седло шикосано,
Заузда го узда позлатена,
Престегна му дванаесет колана.
Оседлал его седлом с галунами,
Обуздал его уздой позолоченой,
Затянул его в двенадцать подпруг.
(Миладиновы, стр. 269)
Обычная формула седлания коня у болгар:
Оседла го сини седла
Сини седла копринени
Обезди го жълта юзда,
Жълта юзда позлатена,
Та пометна лява нога.
Дор пометна десна нога.
Кон отиде на срет земи [66].
Оседлал его синим седлом,
Синим седлом шелковым,
Обуздал его желтой уздой,
Желтой уздой позолоченой
И закинул левую ногу.
Пока закинул правую ногу,
Конь умчался на средину земли.
Если в песне упоминается мать, жена или сестра, что бывает очень часто, то именно им герой поручает оседлать своего
66. В. Стоин. Български народни песни от източна и западна Тракия. София, 1939, стр. 123 (далее — Стоин, 1939). В ряде случаев мы сочли полезным приводить контрольные примеры.
48
![]()
коня. Южнославянские примеры могут послужить благодатным материалом для того, чтобы проследить, как у русских певцов описание седлания коня из момента динамики действия превратилось в момент его замедления.
Аналогичен и поэтому не учтен случай с описанием истребления вражеского войска:
Едни турци со сабя исече,
Други турци со коня изгази,
Си напра'и кърви до колена.
Одних турок саблей порубил,
Других турок конем потоптал,
Очутился в крови по колена.
(Миладиновы, стр. 305)
Для русского эпоса столь краткое описание уничтожения множества врагов не характерно, хотя сопоставимые примеры и имеются. Обычно русский герой, как известно, пробивает в татарском войске целые улицы и переулки. У болгар же излюбленным эпическим приемом истребления множества врагов был другой:
Си искара остра сабя,
Се завърти лево, десно,
'сите ги е посечела,
Останал турчин войвода.
Выхватила острую саблю,
Завертелась налево, направо,
Всех их порубила,
Остался турок-воевода.
(Миладиновы, стр. 259)
Мы не стали также принимать во внимание описание поединка, когда герои ломают палицы, мечи (сабли), копья, сходят с коней и начинают бороться. Это описание как в русском, так и в болгарском эпосе, по нашему мнению, сохранило при некоторой своей типизированности динамичность, быструю смену действий.
Три сделанных нами исключения — описания как моменты динамики действия — представляют собой, вероятно, очень важный этап образования типических мест. Эти описания уже типизированы: 1) герой только седлает, взнуздывает и затягивает подпруги; 2) герой уничтожает множество врагов только тем, что их рубит и топчет конем; 3) судьба поединка решается только в рукопашной схватке, после того как сломано оружие. Но они вместе с тем показывают развитие действия, они — моменты фабулы, без которых эпический рассказ не может обойтись.
Отбирая типические места, мы обращали внимание прежде всего не на кратность их повторения, а на их сходство в русских и южнославянских текстах. После учета сходных типических
49
![]()
мест становится необходимостью и подсчет повторении,, и фиксация позиции типического места в каждом контексте. В результате получился следующий набор сходных типических мест.
1. Небесные светила на теле (или на одежде). В болгарских песнях женщина рожает ребенка:
На гръдите му е ясна месечина
А на главата му летно есно слънце
На груди у него ясный месяц,
А на голове — летнее ясное солнце,
(Миладиновы, стр. 261)
По просьбе героя:
Чини го господ иленче
Сос ясно слънце на чело,
Сос месечина на гърди,
Сос дребни звезди на снага.
Сделал его бог оленем
С ясным солнцем на челе,
С месяцем на груди,
С частыми звездами по телу.
(Веркович, болг. изд. 1966 г., стр. 351)
Наряд невесты:
Сънце беше облечена,
Месечина опасана,
Дробни дзвезди по рамена.
В солнце была одета,
Месяцем опоясана,
С частыми звездами на плечах.
(Миладиновы, стр. 408)
У молодицы одежда:
Ситни и́ звезди на поли,
Ясен и́ месец на рамо,
Ясно и́ слънце на пазва [67-69].
Частые звезды по подолу,
Ясный месяц на спине,
Ясное солнце на груди.
У болгар это типическое место при всей вариантности употребляется применительно к различным персонажам. Немотивированность его употребления достаточно заметна.
У русских это типическое место постоянно встречается во второй части былины «Женитьба князя Владимира». Когда Дунай (Дон) хочет стрелять в Настасью (Непру)-королевичну, она
67-69. В. Стоин. Народни песни от Тимок до Вита. София, 1928, стр. 196. (далее — Стоин, 1928). Сходно описано и цветное платье матери Дюка Степановича (Рыбников, т. II, стр. 214).
50
![]()
предупреждает его:
А несу тебе я сына любимого;
По колен-то ноженьки в серебре,
По локоть-то рученьки в золоте,
А по косицам будто звездушки,
А назади будто светел месяц,
А спереди будто солнышко.
(Рыбников, т. II, стр. 115) [70]
В других былинах такое описание нам не встретилось. Но оно иногда фигурирует в духовном стихе «Муки Егория»:
Молодой Егорей светло-храбрый,
По локоть руки в красном золоте,
По колена ноги в чистом серебре,
И во лбу солнце, в тылу месяц,
По косицам звезды перехожие [71].
Видоизменение описания можно показать на примере, взятом из белорусской свадебной песни, записанной К. Мошиньским:
Мати сына выряжала;
Месяцем его перевязала,
Звездочкой его застегнула,
Долею его закутала [72] ...
Наконец, это описание очень часто встречается в восточнославянских сказках: оно является обычным для характеристики необычного ребенка [73], им раскрываются тайные приметы царевны [74].
За исключением последнего случая немотивированность и, пожалуй, ненужность этого типического места для сюжета тоже очевидна. Вероятно, такое описание некогда имело атрибутивный смысл, забытый и южными, и восточными славянами. Отсюда его перенесения на различные персонажи, помимо чудесного ребенка, и его видоизменения.
70. Варианты типического места в пределах той же былины см.: Рыбников, т. I, стр. 77, 78, 286, 390, 391, 442; в других былинах: там же, т. I, стр. 106, 409.
71. «Сочинения П. И. Якушкина». СПб., 1884, стр. 481.
72. К. Moszyński. Kultura ludowa słowian, t. 2. Kultura duchowa, cz. 2. Warszawa, 1967, str. 661.
73. См., например, сказки типа «Царь Салтан» (Андреев, № 706).
74. См.: Андреев, № 850.
51
![]()
2. Железные лапти и посох. В пределах взятых сборников это описание встретилось только один раз:
Направи Стоян, Стояне,
Направ' железни цървули,
Още железна туяга,
Чи тръгнам Стоян да тръси,
Да тръси лика-прилика.
Сделал Стоян, Стоян,
Сделал железные лапти
И еще железный посох,
Да пошел Стоян искать,
Искать себе суженую.
(Миладиновы, стр. 106)
По существу этот мотив трудно назвать типическим местом, хотя он и звучит как формула невозможного: только когда герой износит железные башмаки и сотрет железный посох, он: достигнет цели. И вместе с тем он носит атрибутивный характер, в нем выражена трудная задача, после выполнения которой герой добьется желаемого. Это отчетливо видно в песне, где похищенная женщина просит змея отправить ее в гости к матери. В ответ на просьбу змей обувает жену в железные лапти и говорит:
Кога се съдерат, либе,
Железни опинки,
Тогава ще идеш, либе,
Когда износятся, жена,
Железные лапти,
Тогда пойдешь, жена,
К своей матери [в гости].
В русском эпосе этот мотив отсутствует. Но он известен по сказкам, в которых героиня (герой) отправляется на поиски исчезнувшего супруга (жены) [76].
3. Реакция природы на рождение или появление героя. Эта описание великолепно создано русскими певцами:
А и на небе просветя светел месяц,
А в Киеве родился могуч богатырь,
Как бы молоды Вольх Всеславьевич.
Подрожала сыра земля,
Стреслося славно царство Индейское,
А и синее море сколыбалося
Для-ради рожденья богатырского,
Молода Вольха Всеславьевича;
Рыба пошла в морскую глубину,
Птица полетела высоко в небеса,
Туры да олени за горы пошли,
75. Стоин, 1928, стр. 342.
76. См., например, сказки типа «Финист, ясный сокол» (Андреев, № 425).
52
![]()
Зайцы, лисицы по чащицам,
А волки, медведи по ельникам,
Соболи, куницы по островам.
(Кирша Данилов, 1958, стр. 39)
Последующее изменение этого наиболее полного описания можно проследить по другим вариантам былины о Волхе (Вольге) [77]. Однако певцы пытались применить это описание и в связи с другими героями.
Народился Микулушка Селянинович:
Птицы улетели за сини моря,
А звери ушли в темны леса,
А рыбы ушли в глубоки станы.
(Рыбников, т. II, стр. 78)
Добрыня скачет на коне, и
От того поезду богатырского
Звери по лесу разбежалися,
Птицы по горам разлеталися.
(Рыбников, т. II, стр. 691)
Изменение начальной части описания видно из последующих примеров:
Еще громы гремели, еще молоньи сверкали,
Была земля трясение —
На небе-че родился светел месяц,
Еще на Руси родился силен богатырь,
Славной Сурович Иванович [78].
Когда воссияло солнце красное
На это небушко на ясное,
Тогда зарождался молодой Вольга.
(Рыбников, т. I, стр. 10)
Когда ж воссияло солнце красное,
Тогда-то воцарился у нас Грозный царь.
(Рыбников, т. I, стр. 212)
77. Рыбников, т. I, стр. 258; т. II, стр. 333, 336.
78. Т. А. Шуб. Былины русских старожилов низовьев р. Индигирки. РФ, т. I, 1956, стр. 232 (далее — Шуб). Записи Шуба ценны тем, что сделаны от русских, живущих в условиях определенной изоляции начиная с XVII в.
53
![]()
Описание знамений природы почти незаметно превращается в сравнение между природным явлением и действием героя:
Когда воссияло на небе красное солнышко,
Когда становилась звезда подвосточная,
Тогда воцарился Грозный царь Иван Васильевич.
(Рыбников, т. II, стр. 263)
Померкло наше красно солнышко,
Потухла звезда подвосточная,
Воспалился Грозный царь Иван Васильевич
На свои на царские на семена.
(Рыбников, т. II, стр. 267)
Не сине-то море колыбается,
Не сырой-то бор разгорается,
Воспылал-то Грозный царь Иван Васильевич.
(Рыбников, т. I, стр. 115)
Дюк Степанович льстит Илье Муромцу:
Одно у нас на небе солнце красное,
Печет во всю землю святорусскую,
А один на Руси могуч богатырь,
Старый казак де Илья Муромец.
(Рыбников, т. II, стр. 541— 542) [79].
Но и певцы от себя дают такие же сравнения:
Не красное солнышко пороспекло,
Не млад ли светел месяц пороссветил:
А показался во Царе-граде
Старый казак Илья Муромец.
(Рыбников, т. II, стр. 98)
Не свет-то на улицы рассветается,
Не зори ли утренни, не зори ль вечорные,
Не светел ли месяц выкатается,
Не часты ль звезды рассыпаются,
Не красное ли солнышко распекло,
Как едет Добрыня со чиста поля.
(Рыбников, т. II, стр. 378, прим. 1)
79. Сходно: там же, стр. 645.
54
![]()
Становясь сравнением, описание утрачивает атрибутивный характер и превращается в типическое место.
У южных славян мы обнаружили только один пример, где так же, как и в былине о Волхе, речь идет о рождении ребенка, зачатого женщиной от змея:
Де се е чуло, видело
Стред зима гърмеж да гърми,
Ф стред зима, ф стред големина!
Дали е на зло, на добро,
Ели е на скапа година,
Ели е на мор по люде?
Нито е на зло, на добро,
Нито е на скапа година,
Нито е на мор по люде —
Рада е змея любила,
Мъжко е дете родила.
Леви въртици отвори... [80]
Где это слыхано-видано,
Чтобы средь зимы гром да гремел,
Посреди зимы, посреди лютой!
Или это к худу иль к добру,
Или к неурожайному году,
Или это к мору средь людей?
Нет, это не к худу и не к добру,
Не к неурожайному году
И не к мору средь людей —
Рада змея любила,
Мальчика родила.
Левые двери отворил...
Дальше певица отказалась петь, объяснив, что когда она произносит слово «змей», змей на нее «налита». И хотя зачин ее песни выглядит утвердительно-отрицательным сравнением, певица точно знает, с кем связан неожиданный гром посреди зимы: «Та той си е флезъл и той е гърмел така. Проклет да е!». В болгарской песне гром вызывает сам змей. В русской былине природные явления связываются уже с сыном змея, рожденного от женщины, а затем, когда древний атрибутивный смысл описания был позабыт, его активно использовали во всех случаях изображения героя или его действия (гнев, скачка, появление в сюжете) с тем, чтобы подчеркнуть исключительность изображаемого. Кроме приведенного случая, все другие известные болгарские описания являются перенесениями:
Она страна оган горит,
Ветар веит — не го силит,
Роса росит — не го гасит.
Ни ми било силен оган,
Току била божя майка,
Сина носит на кърщене.
В той стороне огонь горит,
Ветер веет — его не раздует,
Дождь росит — его не гасит.
Это не был сильный огонь,
А была божья мать,
Она несет сына крестить.
(Миладиновы, стр. 502)
80. СбНУ, кн. 48, стр. 38. Запись 1898 г. в Пиринском крае.
55
![]()
Що е врева во Поройна църква,
Али гърмит, аль се земя тресит?
Ни ми гърмит, ни ми се земя тресит,
Се венча'ат Милош со не'еста.
Что за шум в церкви Поройны,
Или гром гремит, иль земля трясется?
Не гром гремит и не земля трясется
А венчается Милош со невестой.
(Миладиновы, стр. 468) [81]
Що ли гърми, що ли тътни,
Дали левей гора гори,
Дали левен гора гори,
Или ламя гора ломи?
Нито левен гора гори,
Нито ламя гора ломи,
Но е било божа майка,
Завила се, забила се
От Игнате до коледа,
Дорде роди малък бога [82]
Что гремит, что гудит —
Или стройный лес горит,
Или стройный лес горит,
Или ламя лес ломает?
Не стройный лес горит,
Не ламя лес ломает,
То была божья мать,
Закорчилась, забилась
От Игнатова дня до Рождества,
Пока не родила маленького бога.
Море, дал се гърми, ел се земня тресе?
Море, ни се гърми, ни се земня тресе,
Море, Марко бие либе по постелка [83].
Или гром гремит, или земля трясется?
Не гром гремит, не земля
трясется,— Марко бьет жену на постельке.
Утрата атрибутивного характера описания и в болгарских песнях привела к последующим перенесениям его в различные тексты и к превращению в утвердительно-отрицательное сравнение. Любопытно, что оно, в отличие от русского описания, как правило, сохраняет значение зачина песен.
4. Требование едва родившегося героя.
А и будет Вольх в полтора часа,
Вольх говорит, как гром гремит:
— А и гой еси, сударыня матушка,
Молода Марфа Всеславьевна,
А не пеленай во пелену червчатую,
А не поясай в поесья шелковые,
Пеленай меня, матушка,
В крепки латы булатные,
А на буй ну голову клади злат шелом,
По праву руку— палицу.
(Кирша Данилов, стр. 39—40)
81. См. там же сходные зачины: стр. 299, 310, 474.
82. Стоин, 1939, стр. 23.
83. В. Стоин. Народни песни от западните покрайнини. София. 1959, стр. 226 (далее — Стоин, 1959).
56
![]()
Болгарский пример выступает антитезой по отношению к русскому:
Кога дете от майка се роди,
Ми се роди и в час ми зазборва:
— А егиди, моя мила майко,
Пови ме во кумаш пелена
Та стегни ме со сърмени повой,
Оста'и ме три дни и три нокье,
Оста'и ме мал у да поспиа.
Когда дитя у матери родилось,
Родилось и враз заговорило:
— Ах ты, моя милая мать,
Пеленай меня в кумачевую пеленку,
Опоясай золоченым повойником,
Оставь меня на три дня и три ночи,
Оставь меня, я немного посплю.
(Миладиновы, стр. 80)
Проспав три дня и три ночи, дитя требует отцовского коня и оружие и отправляется на бой с чудовищем. Требование мальчика не покажется удивительным, если вспомнить, что герой обязательно спит перед боем со змеем [84]. Поэтому болгарский пример выглядит древнее русского.
Мы не привлекаем здесь другие русские и южнославянские примеры, поскольку атрибутивный характер требования родившегося богатыря очевиден.
5. Роли добытой жены. Молодец пленил самовилу и привез домой:
Я излези, мила майко,
От' ти носам не'естица,
Не'естица самовилска,
Тебе, майко, отменида,
Татко е бела променица,
Брату перче исчешлано,
Сестре леса уплетена.
Ну-ка выйди, милая мать,
Вот везу тебе невесточку,
Невесточку самовилу,
Тебе, мать, замена,
Отцу — одежд перемена,
Брату—чуб расчесанный,
Сестре— коса заплетенная.
(Миладиновы, стр. 1)
В другой песне (там же, стр. 493) к формуле добавлено: «Мене мека постелица». Формула о назначении жены постоянна встречается в очень многочисленных южнославянских песнях о похищении девушки. Герой схватил девушку, посадил на коня
Па си я дома отведе.
— Ете ти, мамо, одмена,
На тате бела премена,
На бая вода студена,
На кака кавга голема [85].
И к себе домой ее отвез.
— Вот тебе, мать, замена,
Отцу — одежд перемена,
Старшему брату— вода студена,
Старшей сестре— ссора большая.
84. Ср. сказки типа «Победитель змея» (Андреев, № 300 А).
85. Стоин, 1959, стр. 275.
57
![]()
В русском эпосе подобные песни о похищении отсутствуют, однако формула эта сохранилась в ряде утративших сюжет песен.
Еще вот тебе, батюшка, вековечная ключница,
Еще вот тебе, матушка, вековечная платьямойница,
Уж как мне ли, добру молодцу, вековечная молодая жена [86].
Сострень, сострень, матушка,
Вот сам сокол едет,
Соколушку везет,
Перемену себе:
В поле работницу,
В доме куховницу,
Гостям приветницу,
Молодому советницу [87].
Украинский пример из веснянки:
Ходім, євдошечко, зо мною,
Будеш ти мені жоною,
А моєму батеньку слугою,
Моїй матоньці другою,
Близьким сусідам панею [88].
Атрибутивный характер и этой формулы очевиден.
6. Перескакивание через коней. В русском эпосе это описание встречается в былине «Молодость Чурилы»:
Едет Чурило, сам тешится:
С коня де на конь перескакивает,
Из седла в седло перемахивает,
Через третье седло да на четвертое.
(Рыбников, т. II, стр. 530; ср. стр. 461)
В пересказе былины оно звучит несколько иначе: «А с Почай-реки едет другая дружина сто молодцев. Впереди всех скачет молодец краше всех: на копье обопрется, на шестую лошадь перескакивает» (Рыбников, т. II, стр. 463, прим. 1). Глухо звучит это описание в прямой речи в былине о Дюке Степановиче,
86. «Собрание народных русских песен с их голосами на музыку положил Иван Прач». М., 1955, стр. 239, свадебная песня.
87. «Харьковский сборник», 1895, вып. 9, стр. 408, свадебная песня.
88. Чубинский, т. III, стр. 178.
58
![]()
когда говорится о дороге от Киева до Галича:
А окольней дорогой на шесть месяцев:
Были бы де кони переменные,
С коня на конь де перескакивать,
Из седла в седло переметывать.
(Рыбников, т. II, стр. 544)
Другие случаи применения этого мотива нам неизвестны. Их не удалось обнаружить и в избранных болгарских сборниках. Сопоставимой южнославянской параллелью может служить эпизод из песен о сватовстве в чужом царстве [89]. В нем условием предбрачных испытаний жениха ставится задача перепрыгнуть через девять коней, через ворота, через пять телег, нагруженных терновником, и т. п. В известнейшей герцеговинской песне «Женитьба царя Стефана» [90] отец невесты требует, чтобы жених перепрыгнул через трех коней, на которые поставлены три «пламенных меча». Южнославянскому условию придан характер исключительности, поэтому мы считаем описания этого условия более поздним явлением, чем русское, где, видимо, получил прямое отражение древний воинский прием. Любопытно, что в сопоставимой русской былине «Женитьба князя Владимира» это условие испытаний не встречается.
7. Отчего лес не зеленый.
— Айти тебе, зелена горо,
Що си, горо, подгорила,
Аль те оган изгорило,
Аль те слана посланила?
— Левен Марко, а стопане,
Не ме оган изгорило,
Ни ме слана посланила,
Туку жальба ми паднала:
Помина'e три синджири,
Три синджири младоробйе,
Под нодзе ме изгази'е,
Со сълдзи ме попари'е.
— Ой же ты, зеленый лес,
Отчего ты, лес, подгорел,
Или тебя пожар выжег,
Или тебя заморозком пожгло?
— Богатырь Марко, мой хозяин,
Не пожар меня выжег,
Не заморозком меня пожгло,
Только горе меня одолело:
Прошли три вереницы,
Три вереницы молодых пленников,
Ногами меня истоптали,
Слезами меня обожгли.
(Миладиновы, стр. 234—235)
89. Указания на варианты см., например: А. П. Стоилов. Показалец на българските народни песни, т. I—II, № 434.
90. Ее часто называют также «Женитьба Душана», молчаливо соглашаясь с Вуком Караджичем, отождествившим этого эпического царя со Стефаном Душаном.
59
![]()
Перин-планина спрашивает Стару-планину, отчего она плачет; та отвечает:
Как да не плачем, как да не жалем:
Сека година булюк айдуци,
Тая година девет булюци.
Згазиха ме ситната трева,
Разматиха студната вода,
Истрошиа зелена гора,
Укървавиа белите камъни.
Как же не плакать, как не горевать:
Каждый год— отряд разбойников,
А в этот год— девять отрядов.
Потоптали у меня мелкую траву,
Помутили студеную воду,
Поломали зеленый лес,
Окровавили белые камни.
(Веркович, стр. 432)
Даже этих двух примеров достаточно, чтобы, не привлекая контрольные, заметить, что мы снова сталкиваемся с переходом от типизированного описания к утвердительно-отрицательному сравнению. Это описание обычно выступает в виде зачина, и такое его положение, вероятно, ускоряло превращение в утвердительно-отрицательное сравнение, довольно распространенное у южных славян.
В русском эпосе подобного описания мы не находим. Есть лишь сопоставимая параллель. Сухман подъезжает к реке и видит:
Матушка Непра-река текет не по старому,
Не по старому, не по прежнему,
А вода с песком помутилася.
На вопрос Сухмана она сообщает, что по ту сторону
Стоит сила татарская, неверная
...Мостят они мосты калиновы,
Днем мостят, а ночью я повырою,
Из сил матушка Непра-река повыбилась.
(Рыбников, т. II, стр. 340—341)
Приведенные примеры из эпоса болгар и русских, как видим, уже стали типизированными картинками, но они еще показывают ход повествования, функциональное значение их не утрачено. Признак замедленности выражается в том, что действие здесь передается через прямую речь.
Зачины же типа «Отчего роща посохла», «Отчего березничек не весел» и другие известны у восточных славян по довольно поздним текстам.
Мы приведем лишь один пример, пожалуй самый интересный.
60
![]()
В украинской песне кукушка спрашивает березу, отчего она не зеленая.
Ой, як я маю зелена бути,
Коли підо мною татар и стояли,
Мечами гілле обтинали,
А ясненькії огні розкладали,
Керничної води доставали [91].
8. Нашествие — туча.
Как от той було стороночки восточной
Подымалась туча богатая, туча грозная, гражь великая,
Еще едет-то Чит, похваляется [92].
Казанскому царю приснился сон:
Как от сильного Московского царства
Кабы сизой орлишша встрепенулся,
Кабы грозная туча подымалась,
Что на наше ведь царство наплывала.
(Кирша Данилов, стр. 195)
В избранных болгарских сборниках сходное описание встретилось всего один раз, причем здесь тучи подразумеваются в буквальном смысле слова:
Попаднале до три темни мъгли,
Попаднале во Стамбола града,
Ми стоял е токму три години,
Очутились три темные тучи,
Очутились над Стамбулом-городом
И стояли всего три года,
отчего не было ни солнца, ни ветра, ни дождя, и начался мор и голод (Миладиновы, стр. 36).
Обычно же подобное описание у болгар встречается в виде очень распространенного зачина «Зададе се тъмен облак», по своей конструкции, как и у русских, являющегося утвердительно-отрицательным сравнением.
Калина просит у бога дождя, и вот
91. Вацлав из Олеска, стр. 443.
92. Шуб, стр. 224. Ср. там же (стр. 229): «...от той було стороночки восточною подымалася туча грозная — выпадала книга голубельный цвет».
61
![]()
Зададе се тъмен облак
... Не е било тъмен облак,
Нъ съ ми били татаре,
Татаре, черни маджаре,
Па си Калина грабнали [93].
Показалась темная туча
...Не была темная туча,
А и были татары,
Татары, черные мадьяры,
И они Калину похитили.
В болгарских песнях с тучами сравниваются самые разные персонажи.
Задале ми се две мъгли
От към тос камен кладенец,
...Не се ми биле два мъгли,
А се ми биле два йорла,
Два йорла, два мили бракья [94].
Дигнали се тъмни мъгли
Низ убава Влашка земя,
Не се биле тешки мъгли,
Ами било Рабро юнак [95].
Зададе се тевен облак,
Не е било тевен облак,
Но е било сиво стадо [96].
Зададе се, Стояне ле, темна мъгла голема,
То не било, Стояне ле, темна мъгла голема,
Еми било, Стояне ле, тешка свадба голема [97].
Припадна ми ситна мъгла,
Не е било ситна мъгла,
Ми се биле сете светци,
Сете светци и ангеле [98].
Показались две тучи
От того каменного колодца,
...То не были две тучи,
А были два орла,
Два орла, два милых брата.
Поднялись темные тучи
Над красивой Валашской землей.
То не были тяжкие тучи,
А был Рабро богатырь.
Показалось темное облако,
То не было темное облако,
А было сивое стадо [овец].
Показалась, Стоян, темная туча большая,
То не была, Стоян, темная туча большая,
А и была, Стоян, богатая свадьба большая.
Опустилась густая мгла,
То не была густая мгла,
А и были все святые,
Все святые и ангелы.
Происхождение этого описания мы связываем с чрезвычайно распространенными среди южных славян верованиями в
93. Стоин, 1928, стр. 103.
94. Там же, стр. 57.
95. Там же, стр. 33.
96. Там же, стр. 137. Ср. украинское описание: «Почернела черная горонька, вышла из-за нее черная тученька, черна тученька, овец стадушко» (Я. Головацкий. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, т. 2. М., 1878, стр. 60).
97. Стоин, 1928, стр. 186.
98. Там же, стр. 26.
62
![]()
то, что змей (ламя, хала, аждая) или, реже, орел водит облака и в особенности градоносные тучи. Нередко при этом фантастическое чудовище отождествляется с самой тучей, на битву с которой вылетает «свой» змей, оберегающий поля, сады и виноградники каждого данного села. Поэтому сравнение нашествия с черной грозной тучей можно считать вполне мотивированным: нашествие реальных врагов подобно тому, как чудовище-туча приносит опустошение. Однако при этом атрибутивный характер описания утрачивается, нашествие уже только сравнивается с тучей. Отсюда и возникает реализуемая возможность переносить сравнение применительно к любым другим персонажам.
Интересно, что прямой намек на атрибутивный характер сохранился и в русской былине «Добрыня и змей»:
А не темные ли темени затемнели,
А не черные тут облаци попадали,
А летит ко Добрынюшки люта змея [99].
9. Полоны. Нашествие хлынуло на родную землю:
Стари сечеха, млади робеха,
Млади девойки отбор земаха
Та ги правеха млади робини,
И млади момци отбор земаха
Та ги правеха'се яничере.
Дето минуват, селата горят,
Хората робат, селата горят.
Старых рубили, молодых в полон брали,
Молодых девиц отбирали
И делали их молодыми рабынями,
Молодых парней отбирали
И делали их все янычарами.
Где проходят, села жгут,
Людей полонят, села жгут.
(Миладиновы, стр. 124)
Размирила ся Влашката земя,
Влашката земя и Богданската,
Старо губиле, младо робиле,
Мъшки дечица под кони тъпчат,
Та поробиле Гинка робинка.
Взволновалась Валашская земля,
Валашская земля и Богданская,
Старых рубили, молодых в полон брали
Маленьких мальчиков конями топтали,
И полонили Гинку-полонянку.
(Миладиновы, стр. 194)
Болгарские описания полона известны по песням с различными сюжетами, тогда как русское описание встретилось
99. Гильфердинг, т. I, стр. 540; сходно: стр. 541, 547.
63
![]()
только в былине «Братья Ливики»:
Как оттуда они погнали
Добрых коней стадмы-стадом,
Добрых молодцев рядмы-рядом,
А красных девушек, молодых молодушек
Повели оттуль толпицами.
(Рыбников, т. II, стр. 256) [100]
Перенос и переосмысление описания имеется в исторической песне. Кострюк посылает царю Ивану Васильевичу грамоту, в которой требует приготовить к его приезду улицы, дворы, питья, ества и вывести на улицы людей:
И вываживай — налаживай
Красных девушек толпицами,
Молодушек станицами
И удалых добрых молодцев ширинками.
(Рыбников, т. II, стр. 387 и 389)
Описания полона являются функциональными, ими выражено действие, но оно уже типизировано. Сами исторические условия требовали типизации такого описания, и они же обусловили крайне редкую применимость его в русском эпосе и чрезвычайно широкую распространенность в эпосе южных славян, где мотив «три вереницы (цепи) пленников» постоянен в песнях о вражеских набегах и нашествиях.
10. Вид этнического противника. В Солуне появилась
Страшна беда хала-халетина,
Халетина църна Арапина.
Долна уста на гръде му бие,
Горна уста в чело го удара,
Глава има колку два тъпана,
Очи има колку две паници,
Уста има колку мала врата,
Зъби има четири дикели,
Нодзе има солунски диреци.
Страшная беда—чудо-чудовище,
Чудовище черный Арапин.
Нижняя губа ему в груди бьет,
Верхняя губа ему в лоб ударяет,
Голова у него как два барабана,
Глаза у него как две тарелки,
Рот у него как малая дверь,
Зубы у него — четыре мотыги,
Ноги у него — солунские столбы.
(Миладиновы, стр. 270)
Татары в русском эпосе описываются скромнее:
А мерою тот татарин трех сажен,
Голова на татарине с пивной котел,
100. Несколько пространнее см.: Гильфердинг, т. I, стр. 661.
64
![]()
Который котел сорока ведер,
Промеж плечами косая сажень.
(Кирша Данилов, стр. 166) [101]
Престрашные татаровья, преужасные,
Во плечах у них так велика сажень,
Межу глазами велика пядень,
На плечах головушки как пивной котел.
(Рыбников, т. I, стр. 57)
Один из певцов перенес эту характеристику даже на Добрыню:
Нос у него что палица,
Глаза у него — пивны щаны.
(Рыбников, T. II, стp. 692)
Описание гиперболизированного и страшного вида этнического противника атрибутивно по своему значению, что отмечалось многими исследователями.
11. Прожорливость этнического противника. Черный Арап требует от жителей Солуна в день:
'Леб им сакат по две фурни 'леба,
И им сакат крава яло'ица,
И им сакат по бочка ракиа,
И им сакат по две бочки вино.
Хлеба у них требует по две печи,
И у них требует корову яловую,
И у них требует по бочке водки,
И у них требует по две бочки вина.
(Миладиновы, стр. 270)
Это описание нами встречено лишь в песне «Больной Дойчин». В русском эпосе оно сопровождает образы Тугарина и Идолища [103]. Атрибутивный характер описания здесь тоже очевиден.
12. Пышет огнем. У халы, черного Арапа:
Кога клапат таа пуща уста,
Дур од уста огин изфърлюва,
Дур на гора листови облива.
Когда разевает этот клятый рот,
Аж изо рта огонь извергает,
Аж у леса листья обливает.
(Миладиновы, стр. 270)
101. Сходно: там же, стр. 127.
102. Сходно: там же, стр. 242—243, 245, 271.
103. Мы не приводим русских примеров в силу их широкой известности. См. их: Кирша Данилов, стр. 131, 132; Рыбников, т. I, стр. 34—35, 455; т. II, стр. 99, 192, 204, 301, 303.
65
![]()
Непроизвольную подборку сербо-хорватских примеров можно прочитать у М. Г. Халанского: огонь изрыгает изо рта Змей Огненный Вук [104], трехголовый воевода ледянского короля [105], трехголовый конь слуги Токальского короля [106], конь Марка Кралевича [107]. Мы не приводим контрольных болгарских примеров, поскольку они аналогичны. Налицо последовательное эволюционное перенесение атрибута змея на его преемников в сюжете и, наконец, только на коня героя.
То же самое наблюдается в учтенных нами былинах. Правда, русские певцы не уточняют, откуда от змея пышет огонь; это уточнение иногда имеется только в змееборческих сказках.
А потом пришел большой змей,
Он жжет и палит пламем огненным.
(Кирша Данилов, стр. 154)
Змей Горынчища грозит Добрыню «огнем спалить, хоботом ушибить» [108]. Тугарин Змеевич говорит:
Хошь ли я тебя огнем спалю?
Хошь ли, Алеша, конем стопчу?
Или тебя, Алешу, копьем заколю?
(Кирша Данилов, стр. 134) [109]
Описание сменяется угрозой, и в ней начинают преобладать сугубо воинские моменты. Метаморфоза описания обусловлена изменением эволюционной характеристики образа. Тугарин осознается уже не змеем, а великаном на коне:
В вышину ли он Тугарин трех сажен,
Промеж плечей косая сажень,
Промежу глаз калена стрела;
Конь под ним, как лютой зверь,
Из хайлища пламень пышет,
Из ушей дым столбом стоит.
(Кирша Данилов, стр. 127)
104. Халанский, т. I, стр. 51.
105. Там же, т. II, стр. 307.
106. Там же, т. II, стр. 344.
107. Там же, т. I, стр. 79; т. II, стр. 284.
108. Кирша Данилов, стр. 237; сходно: стр. 55.
109. Ср. там же, стр. 128.
66
![]()
Отсюда перенос атрибута на богатырского коня. Например, у коня Сокольника
...изо рта пламя пышет,
Из ушей у коня кудрев дым валит.
(Рыбников, т. II, стр. 513)
Под ним конь как лютый зверь,
Из ноздрей-то искры сыплются,
Из ушей-то дым столбом стоит.
(Рыбников, т. II, стр. 633)
Таковы же кони Василия Игнатьева [110] и Дюка Степановича [111]. Атрибутом стала подчеркиваться исключительность персонажа, тогда как для змеев он был обыденным, натуральным, если так можно выразиться, признаком.
13. Ни птица пролетит, ни человек пройдет.
Бог е убил кучкана ламия,
Ми паднала на рамни пътища,
Що поминвит— куртулиа немат.
Убей бог ту сучку ламию,
Пала на ровные дороги,
Кто ни пройдет— тот не спасется
(Миладиновы, стр. 80 и 81)
Прочуло ся е люта змия,
Люта змия осойница
На царьовите друмове,
Та воспря на царя хазна,
Та не може да му мине.
Цар ся чуди, цар ся мае (...)
Прошла слава про лютую змею,
Лютую змею ущельную
На царевых на дорогах,
Она остановила царю сбор податей,
Да не может никто пройти.
Царь дивится, царь мается...
(Миладиновы, стр. 166)
Посилил се цръна арапина,
Посилил се по Бугарска земя,
Заванал е друми и пътища,
Завардил е камени клисури,
Та не смее пиле да прелети,
А то нели човекда промине [112].
Получил силу черный арапин,
Получил силу на Болгарской земле,
Захватил пути и дороги,
Перекрыл каменные ущелья:
Да не смеет птица пролететь,
А не то что человек пройти.
110. Рыбников, т. II, стр. 413.
111. Там же, стр. 318, прим. 1.
112. СбНУ, 1894, кн. 10, отд. III, стр. 84—85.
67
![]()
Муса Кеседжия говорит Марку Кралевичу:
Не чуваш ли, Марко, не видиш ли, Марко,
Че не пущам по моето поле
Птиче да профръкни, не челяк да мине [113].
Не слышишь ли, Марко, не видишь ли, Марко,
Что я не даю по моему полю
Ни птице пролететь, ни человеку пройти?
На болгарских примерах можно легко проследить, как запирание дорог из атрибута змея постепенно становится переносным и каждый раз мотивированным. Атрибут присваивается преемникам змея по сюжету, вообще этническим противникам, разбойникам.
В русском эпосе этот мотив органически связан с образом Соловья-разбойника [114]. Поэтому он служит одним из важных аргументов в пользу того, что Соловью-разбойнику, подобно Мусе Кеседжии, тоже предшествовал Змей. И вместе с тем само присутствие слова «разбойник», хотя в былине и не говорится, что Соловей грабил людей, облегчает перенос атрибута на другие персонажи. Казаки жалуются:
Еще от вора от Васьки от Голицына с детьми
Залегли пути-дороги за сине море,
А и не стало нам добычи на синем море.
(Кирша Данилов, стр. 290)
Запирание дорог становится и неотъемлемым атрибутом богатырской заставы в былине «Илья Муромец и сын»:
...по славной Московской заставы
Пехотою никто не прохаживал,
На добром коне никто не проезживал,
Серый зверь не прорыскивал,
Птица черный ворон не пролетывал.
(Рыбников, т. I, стр. 23) [115]
113. Халанский, т. I, стр. 90.
114. Кирша Данилов, стр. 239; Рыбников, т. I, стр. 16, 349; т. II, стр. 44, 153, 478, 584.
115. Сходно: там же, стр. 425.
68
![]()
Аналогичный мотив запирания дорог богатырем имеется и в ряде южнославянских песен. Например, Груя стережет горный перевал:
А кто летит — живым пролетит,
А кто идет — под саблю кладет [116].
14. Двор этнического противника.
Как бы двор у Соловья был на семи верстах.
Как бы около двора железной тын,
А на всякой тынинке по маковке
И по той по голове богатырския.
(Кирша Данилов, стр. 241)
Перенесение описания на двор русских героев уже не требует упоминания о черепах на тыне.
У Чурилы Пленковича:
Двор у него на семи верстах,
Около двора железной тын,
На всякой тынинке по маковке,
А и есть по земчужинке.
(Кирша Данилов, стр. 112)
Точно такой же двор и у гостя Терентьища (там же, стр. 17). Судя по сборнику Рыбникова, севернорусские певцы не упоминали о решающей детали описания двора — о головах (жемчужинах) на тыне. Поэтому мы не стали здесь учитывать их формулы.
То же описание встречается в некоторых южнославянских песнях.
У Дервиш-бега воеводы:
Сами му се куки познавает,
Пусти порти му се челико'и,
На бедени гла'и наредени.
Его дом всем известен,
Клятые его ворота— булатные,
На стенах головы развешаны.
(Миладиновы, стр. 307)
116. В. Качановский. Памятники болгарского народного творчества. СПб., 1882, стр. 192.
69
![]()
Филип Маджарин похваляется:
Ја сам сваку главом накитио
Да нијесам кулу на ћуприји,
А и њу ћу скоро окитити
Русом главом Кралевића Марка [117],
Я каждую головой украсил,
Кроме башни на воротах,
Но и ее скоро украшу
Русой головой Кралевича Марка.
Это атрибутивное описание довольно, редко встречается в эпических песнях. Но оно очень широко распространено в сказках [118].
15. Герой подбрасывает и ловит палицу. Это описание свойственно для былины «Илья Муромец и сын» и закреплено за этническим противником.
Ездит паленица в поле, тешится,
Шутит она шуточку не малую, —
Кидает она палицу булатнюю
Под эвтую под облаку ходячую,
Подъезжает-то она на добром коне,
Подхватит эту палицу одной рукой,
То как лебединым перышком поигрывает;
И не велика эта палица булатняя,
Весом-то она да девяноста пуд.
(Рыбников, т. I, стр. 26) [119]
Атрибутивный характер описания по существу забыт. О нем напоминает, например, такой отрывок: «поленица в поле гуляет и палицу свою кверху кидает: «Как, мол, палица вертится, так я буду Илью Муровича вертеть» [120]. Только с учетом похвальбы поленицы можно понять антитезу — действие Ильи Муромца:
Не стреляет он Збута Бориса — королевича,
Его только схватил во белы руки
И бросает выше дерева стоячего
...И назад он летит ко сырой земли,
Подхватил Илья Муромец Иванович
На свои он руки богатырские,
Положил его да на сыру землю.
(Кирша Данилов, стр. 246) [121]
117. Халанский, т. II, стр. 291.
118. Например, типа: Андреев, № 313, 327 В, 480* F, 507 В.
119. Очень кратко, в трех стихах, см.: там же, т. II, стр. 513.
120. Н. И. Рождественская. Сказы и сказки Беломорья и Пинежья. Архангельск, 1941, стр. 119).
121. Ср. то же в рассказе Збута (стр. 247).
70
![]()
Утрата атрибутивного характера облегчила перенесение описания в различные тексты: палицу подбрасывают Идолище [122]. И Хотен Блудович [123], дубы подбрасывает сила короля нечестивого [124], копье подбрасывает Чурила [125].
В сборниках Верковича и братьев Миладиновых это описание отсутствует. Оно обычно встречается в песне «Марко и Муса Кеседжия»:
Ал' ето ти Мусе Keceђијe,
На вранчићу ноге прекрестио,
Топузину баца у облаке,
Дочекује у бијеле руке.
А вот и Муса Кеседжия,
На вороном коне ноги скрестил,
Палицу кидает в облака,
Принимает на белые руки.
В болгарской песне палицу, подбрасывает уже не Муса, а Марко Кралевич [126]. Черный Арап, встречая сватов,
Голу сабљу у облака баца,
А голу је у зубе причека [127].
Голую саблю в облака кидает
И голую зубами ловит.
Описание стало типическим местом, применяя которое, певцы подчеркивали богатырство и воинское умение героя. Для певцов подбрасывание палицы было приемом, должным наводить ужас на противника. Описание использовалось уже как одно из средств обычного эпического противопоставления: этнический противник всегда преувеличен, этнический герой — преуменьшен, точнее он рисуется как обычный человек. Поэтому перенесение на этнического героя атрибутов его противника мы считаем более поздним явлением. Такое перенесение обусловлено идеализацией, стремлением наиболее ярко показать исключительность героя и его деяний.
16. Герой вгоняет противника в землю.
И го фати Гино Арнауче,
Си го фати Марка Кралевикя,
До колена в земи го закопа,
Ущ' едношка дури до пояса.
И схватил его Гино Арнаутче,
И схватил Марка Кралевича,
До колен его в землю вогнал,
Еще б немножко — и до пояса.
(Миладиновы, стр. 153)
122. Рыбников, т. I, стр. 146.
123. Там же, стр. 97.
124. Там же, т. II, стр. 7.
125. Там же, стр. 530.
126. Халанский, т. I, стр. 90.
127. Там же, т. II, стр. 346.
71
![]()
И Дойчин се предвикнало,
Боздогана е фарлило,
В гръди го е погодило,
В църна земя закопало.
И там село се градело,
И се викна Араплия,
Що ми стоит ден денеска.
И Дойчин закричал,
Палицу бросил,
В грудь ему угодил,
В черную землю вогнал.
И там село построилось,
И назвали Араплия,
Оно стоит по сей день.
(Миладиновы, стр. 246) [128]
В южнославянских песнях герой довольно часто завершает рукопашную схватку тем, что вгоняет своего противника в землю на две, три, даже девять пядей [129]. Этот момент на основе просмотренных нами эпических песен объяснить нельзя. Однако он перестает быть загадкой, если для объяснения привлечь сказки типа «Бой на калиновом мосту» (Андреев, № 300 В) и «Три царства» (Андреев, № 301), где змей неизменно в ходе поединка старается вогнать героя в землю, а тот постоянно просит роздыху и, выбираясь из земли, рубит змею головы. Видимо, это действие также считалось присущим только змею, а позже стало прикрепляться к любым героям при описании поединка.
Желтый змееныш кличет себе супротивника, отзывается только святой Илья. Они стали бороться, змееныш
Па побия свет Илия,
Побия го в бели камък,
До пояса копринени,
И вбил святого Илию,
Вбил его в белый камень,
До пояса [камень] шелковый,
(Кирша Данилов, стр. 171)
после чего три года не было дождей, пока святые не догадались разыскать и освободить Илью [130].
В русском эпосе мы встречаем описания, в которых этот мотив утрачен:
Согнет он царя корчагою,
Опустил он о сыру землю.
(Кирша Данилов, стр. 103)
Согнет его корчагою,
Воздымал выше буйной головы своей,
Ударил его о горюч камень,
Расшиб его в крохи [. . .]
(Кирша Данилов, стр. 171)
128. Арапа загоняет палицей в землю и Марко Кралевич (Халанский, т. II, стр. 241, сербская песня).
129. В сб. Миладиновых см. еще примеры на стр. 253, 317.
130. Стоин, 1928, стр. 26. Ср. тут же вариант, где вместо змея молодой паренек вбивает святого Илью на 9 пядей в глубину.
72
![]()
Так расправлялись Иван Годинович с царем Афромеем Афромеевичем, Илья Муромец с Калином. Аналогично победил Потанька Мастрюка [131], Волх — индейского царя [132], Илья Муромец — Сокольника [133]. Как у русских, несмотря на видоизменение, так и у южных славян описание стало типическим местом, призванным подчеркнуть богатырство героя.
17. Герой выкалывает противнику глаза, отрубает руки и ноги. Описание этого жестокого способа расправы обычно приводится певцами тогда, когда они хотят показать презрительное отношение героя к врагу: герой как бы считает ниже своего достоинства убивать врага.
Босоль Арапче не слуша,
Черни му очи извърте,
Десна му ръка отреза,
Та го на царя запрати,
Да види царя, да чуе,
Какви юнаци живеят.
Босоль Арапа не слушал,
Черные очи ему выкопал,
Правую руку ему отрубил
И его к царю отправил:
Пусть царь увидит, узнает,
Какие богатыри живут.
(Миладиновы, стр. 330)
Та си фати рус войвода,
Нодзе секла до колена,
Ръце секла до лактите,
Му извърти църни очи,
Църни очи от главата,
Го качи на бърза коня,
Па му даде той стребрен тас,
Му наръча да си шета
И за бога да си сака.
И схватила русого воеводу,
Ноги рубила до колен,
Руки рубила до локтей,
Выкопала ему черные глаза,
Черные глаза из головы,
Посадила его на быстрого коня
И дала ему серебряный таз,
Наказала ему ездить
И милостыню собирать.
(Миладиновы, стр. 259)
Варьируется по существу не способ расправы, а та цель, ради которой герой сохраняет врагу жизнь:
Г' оставиха на бели чешми,
Кой од там ми помине,
За бога нему да даде.
Оставили его у источника.
Кто там пройдет,
Пусть милостыню ему подаст.
(Миладиновы, стр. 168)
131. Кирша Данилов, стр. 37.
132. Там же, стр. 44.
133. Рыбникову т. I, стр. 428.
73
![]()
Жених расправляется с невестой:
Одреза вой беле руке,
Извърте вой църни очи:
— Иди, Гмитро, куде знаеш [134].
Отрубил он белые руки,
Выкопал он черные глаза:
— Иди, Димитра, куда знаешь!
Изредка очень близкое описание встречается в русском эпосе. Илья Муромец
И брал племянника за ручки за белые,
И бросал племянника о сыру землю,
Выкопал у племянника глаза и посадил на добра коня:
— Повози, добра лошадь, куда знаешь его [135].
Наиболее часто этот способ расправы фигурирует в былине «Братья Ливики». Поскольку в ней наказываются за грабительский наезд два брата, постольку и наказание как бы делится между ними поровну [136]:
Как наехала силушка Романова,
Большему брату глаза выкопали,
А меньшему брату ноги выломали,
И посадили меньшего на большего
... — Ты, безглазый, неси безногого,
А ты ему дорогу показывай!
(Рыбников, т. II, стр. 368) [137]
Так же расправляется Илья Муромец с Калином-царем:
Тут Илья взял — сломал ему белы руки,
Еще сломал собаке резвы ноги,
Другому татарину он сильному
Сломал ему белы руки,
Выкопал ему ясны очи,
Привязал собаку за плеча татарину
... — На-тко, татарин, неси домой,
А ты, собака, дорогу показывай.
(Рыбников, т. II, стр. 113)
134. Стоин, 1959, стр. 239.
135. ЖС, 1906, вып. 2, отд. II, стр. 84, запись первой половины XIX в.
136. Ср. соответствующий мотив сказки «Слепой и безногий» (Андреев, № 519).
137. Сходно: там же, т. II, стр. 73, 262, 430. Только в одном случае (там же, т. I, стр. 300) этим королевичам литовским одинаково «по колен им ноги повыломали, очи ясные повыкопали».
74
![]()
Это описание явно перенесено из былины «Братья Ливики», но оно за былинами о нашествиях не закрепилось. В других случаях, когда герой расправляется только с одним противником, вся тяжесть расправы приходится на одного врага [138]. Везде описание по существу выступает моментом действия.
18. Оженила мать — сыра земля. Умирающий герой просит товарищей:
Лю да кажайте на моята майка,
Бре ди се той угоди
За малка мома, за църноземка.
Только скажите моей матери,
Дескать он посватался
На маленькой девушке, на черноземке,
(Веркович, стр. 427)
Иносказательное сообщение героя о своей смерти в пределах взятых болгарских и русских сборников встретилось только один раз. Мы не приводим контрольных примеров по причине известности этого мотива. Он особенно распространен в русских солдатских, ямщицких и казачьих песнях, очень активно варьировался и постоянно играл функциональную роль.
19. Нравы эпохи (страны).
При царе Давыде Евсеевиче,
При старце Макарье Захарьевиче
Было беззаконство великое:
Старицы по кельям — родильницы,
Чернецы по дорогам — разбойницы,
Сын с отцом на суд идет,
Брат на брата с боем идет,
Брат сестру за себя емлет.
(Кирша Данилов, стр. 260)
Эта характеристика эпохи вставлена в былину совершенно немотивированно, между знаменитым зачином «Высота ли высота поднебесная» и началом самой былины «Из далеча чиста поля выскокал тут, выбегал Суровец, богатырь Суздалец». Неуместность вставки очевидна. Вероятно, перед нами отрывок из какого-то другого произведения. Поздний, христианизированный характер описания отнюдь не означает, что ему не предшествовала долгая история.
В пределах взятых болгарских сборников сходное описание встретилось только в песне «Святой Илья и его сестра, огненная Мария»:
138. Илья расправляется с Идолищем (Рыбников, т. I, стр. 355), Михайла с Кострюком (там же, стр. 482).
75
![]()
Бог д' убие земя Паливянска,
Тамо ся с вера разверила,
Не почитат ни баща, ни майка,
Нито брата, нито мила сестра;
Баща имат връла душманина,
Майка имат клета робинчица,
Брата имат като измекяра,
Сестра зимат за своя си люба.
Порази бог землю Паливянскую,
Там в вере разуверились,
Не почитают ни отца, ни мать,
Ни брата, ни милую сестру;
В отце видят лютого врага,
В матери видят клятую рабыню,
В брате видят батрака,
Сестру берут себе в жены.
(Миладиновы, стр. 62)
Татко имат като лудо дете,
Стара майка на нодзе изгазиле,
Сестри имат като измекярки,
Брата имат като душманина,
Своя снаха като първа люба,
Кум кърщеник на судба се терат.
Отца принимают за спятившее дитя,
Старую мать ногами истоптали,
Сестер принимают за батрачек,
Брата принимают за врага,
Свою сноху — как первую любовницу,
Крестного отца на произвол бросают.
(Миладиновы, стр. 26)
Не выдержав страшных наказаний, ниспосланных на них за такие нравы, люди исправляются:
Татко имат като свое сърце,
Майка имат като своя душа,
Сестри имат като десна ръка,
Своя брата като десно око,
Своя снаха като иста сестра,
Кум кърщеник като бога истога.
Отца имеют как свое сердце,
Мать имеют как свою душу,
Сестер имеют как правую руку,
Своего брата — как правое око,
Свою сноху — как истинную сестру
Крестного отца — как бога истинного
(Миладиновы, стр. 2 )
Перед нами моральный кодекс, сводка представлений о нормах быта. В болгарских песнях вообще очень силен дидактический элемент. Многие песни буквально построены на том, что кто-то выслушивает сообщение об определенной норме, нарушает норму, испытывает последствия нарушения, раскаивается и восклицает:
Клета му е душа и проклета,
Който майка си не слуша!
Конечно, моральный кодекс в виде тезиса или антитезиса изменялся в аграрной среде очень медленно. Он несомненно существовал и до принятия славянами христианства. Однако
76
![]()
формула, которой он выражался была, по-видимому, более ежа той, о чем напоминает следующий отрывок:
Тие, братко, не знаят
Ни кой е майка, ни кой е баща,
Ни кой е брата, ни кой е сестра.
Ни кой е малко, ни кой е големо.
Они, братец, не знают,
Кто у них мать, кто — отец,
Кто у них брат, кто — сестра,
Кто у них малый, кто — большой.
(Веркович, стр. 348)
Учтенными 19 примерами исчерпывается набор сходных описаний во взятых болгарских и русских сборниках. Просмотр других сборников, вероятно, позволил бы увеличить эту цифру. Сделанные три исключения, не говоря уже о формуле пира, также можно было бы прибавить к нашим примерам, поскольку, как постепенно выяснилось, они очень близки по своему значению. Однако прибавления не меняют по существу выводов, они лишь делают их еще более убедительными.
Итак, описания первоначально выступают как моменты действия или атрибуции определенного героя. Они становятся типизированными, когда их пределы ограничиваются более или менее устойчивым набором элементов. Медленно и незначительно меняясь по содержанию, типизированные описания могут изменяться по форме (прямая речь, отрицательное сравнение) и по своей роли в повествовании. Смена закрепления типизированного описания — от определенного героя или ситуации к эволюционным преемникам, к любым эпическим противникам, к любым персонажам или любым эпическим событиям — превращает его в типическое место. Перенос описания может сопровождаться серьезными изменениями в его содержании, переосмыслением. Немотивированный атрибут является более ранним, чем мотивированный. Перенос атрибута с этнического противника на этнического героя или его коня свидетельствует об идеализации последних и служит для подчеркивания их исключительности. Типические места, как оказалось, являются последним, а не изначальным этапом формирования описаний в эпосе [139]. Они — результат длительной эволюции эпоса, его событий и героев.
Что же касается повторяемости приведенных 19 описаний, то для нас они имеют меньшее и иное значение, нежели позиция описания в тексте, его связь с событием или героем.
139. Этот наш вывод совпадает с мнением А. В. Позднеева, несмотря на использование иного рода аргументации. См.: А. В. Позднеев. Общие места и «перенесения» в былинах. «Проблемы истории литературы». М., 1964.
77
![]()
В отличие от П. Д. Ухова и А. В. Позднеева, которые использовали число повторений в определенных границах как аргумент за или против отнесения описания в разряд типических мест, мы учитываем повторяемость лишь для того, чтобы выявить удельный вес типизации описания в эпосе и таким образом установить норму многообразия того или иного состава песен. На 19 случаев мы имеем 41 повторение в сборниках Верковича и братьев Миладиновых, 121 повторение в сборниках К. Данилова и Рыбникова. Следовательно, средняя частота повторений одного описания у болгар — 2, у русских — 6. Разница внушительная. Можно подсчитать и по-другому, исходя из числа текстов. В болгарских сборниках 1000 текстов, в русских — 300. Следовательно, одно повторение у болгар приходится на 24 текста, а у русских — менее чем на 3. Конечно, не следует придавать абсолютное значение этим цифрам. Создание словаря сходных славянских описаний, выявление средней частоты их повторений или их повторяемости в текстах каждого сборника, а не только первых изданий, — все это еще дело будущего. Приведенные цифры для нас важны как показатель тенденции в соотношении между ранним и поздним, многообразным и типизированным. Число сходных типизированных описаний, даже с учетом исключений, не сопоставимо с числом схождений в области повествования: не меньше половины текстов болгарских и русских сборников сходны между собой за счет сохранения описаний внутри строго определенных текстов.
7. Трансформация эпических песен в XIX—XX вв.
Для русского эпоса характерны два процесса изменения эпических произведений, замеченные на протяжении последних столетий: отчасти — трансформация эпических произведений {главным образом баллад) в пределах песенных жанров, в направлении от эпоса к лирике, и преимущественно — переход в разряд народной прозы (главным образом былины, ранние исторические песни и духовные стихи.). Южнославянским эпосам также присущи оба эти процесса, однако трансформация эпических произведений в пределах песенных жанров там преобладает до сих пор. Вместе с тем там еще в XIX в. был замечен переход эпоса в разряд народной прозы. Но этот процесс, судя по сообщениям собирателей, и поныне не стал господствующим, как это произошло на Русском Севере.
Просматривая записи, сделанные в XIX в. в пределах бывшей Олонецкой губернии, нетрудно обнаружить малочисленность
78
![]()
прозаических пересказов былин. Их число, правда, последовательно возрастает, но не настолько, чтобы говорить об их преобладании над стихотворными текстами. Сами собиратели ни словом не обмолвливаются о тревожности характера этих случаев. Конечно, малочисленность таких записей [140] можно объяснить как следствие субъективизма собирателей. Однако мы склонны думать, что, хотя собиратели на Русском Севере действительно отдавали предпочтение полнокровным текстам, они не могли не заметить трансформацию былин в прозу, если бы она была преимущественным явлением. Процесс необратимого перехода в прозу нарастал постепенно и был обусловлен неравномерностью общественного развития в различных районах России. К сожалению, исследователи и собиратели прошлого четко не определяли продуктивные и непродуктивные явления в эпосе. Часто говорилось, что эпос вот-вот отомрет со смертью данного поколения певцов, но пути отмирания эпоса не показывались, вместо конкретного рассмотрения вопроса подставлялась биологическая причина — смерть певцов. В советское время, точнее в 30—40-е годы, освещению вопроса серьезно препятствовала ложная концепция расцвета эпоса в эпоху социализма.
Если же обратиться к фактам, то за исключением некоторых районов Русского Севера русский эпос перестал быть продуктивным явлением еще в XIX в. Больше того, процессы его трансформации были уже необратимыми, т. е. они стали процессами его отмирания и исчезновения. Огромные успехи, достигнутые советскими собирателями на Севере в 20—30-е годы, послужили, как это ни странно, одной из причин формирования концепции о расцвете эпоса. В те годы собиратели еще имели возможность в ряде районов Севера записывать полнокровные былины. На остаточные явления, на продукты отмирания эпоса почти не обращали внимания. Таким образом, удельный вес полнокровных произведений в общей массе находящихся в обращении и известных жителям текстов не был выявлен. По существу тогда никого эта проблема не интересовала. Обобщения же делались на основе записей полнокровных былин, полученных при кратковременных, по примеру Рыбникова
140. На прозаические записи былин исследователи до сих пор обычно обращают внимание в тех случаях, когда они сделаны в районах (средняя полоса России, Украина и др.), где стихотворные записи почти или совсем не делались. О бытовании сказок с былинными сюжетами (преимущественно дореволюционные записи) см.: А. М. Астахова. Народные сказки о богатырях русского эпоса. М.—Л., 1962. О некоторых случаях перехода украинских дум в прозу см.: Б. П. Кирдан. К вопросу о жанровой трансформации украинских дум. РФ, 1963, т. VIII.
79
![]()
и Гильфердинга, наездах в севернорусские районы и крайне выборочном их обследовании.
Объективные результаты состояния севернорусской эпической традиции были получены слишком поздно, в ходе экспедиций кафедры фольклора МГУ (1956—1962) [141]. Мы применили метод сплошной записи, согласно которому опрос на эпос проводился в каждом населенном пункте, среди всех жителей. Чтобы избежать упущений, повторялись маршруты: например, на Кенозере (Архангельская обл.) мы работали в течение четырех экспедиций. В результате была обследована вся восточная часть Карелии и западная часть Архангельской обл. Итоги говорят сами за себя. Так, по нашим подсчетам совместно с Ю. А. Новиковым [142], экспедициями было записано в 1956—1959 гг.: полных былин — 39, былин, представляющих собой начало текста, — 17, былин в отрывках—16, прозаических пересказов — 113. Состояние баллад оказалось лучшим: из 236 текстов 216 были полными. Состояние эпической традиции резко менялось в худшую сторону буквально у нас на глазах. В 1962 г. собиратели МГУ записали: полных былин — 9, былин в отрывках — 5, прозаических пересказов — 35, полных баллад — 69, баллад в отрывках — 41, баллад в пересказах — 6 [143]. Трансформация русских эпических песен стала абсолютно необратимой, конкретно она описана в упоминавшихся экспедиционных отчетах [144].
Иное представление о состоянии эпической традиции возникает при прочтении отчетов ленинградских фольклористов, параллельно с нами работавших в других районах Севера [145]. Может даже показаться, что положение ничуть не изменилось
141. Эти экспедиции продолжались и в последующие годы, однако после 1962 г. число записей эпических песен настолько сократилось, что о них здесь можно и не упоминать.
142. Ю. А. Новикову Ю. И. Смирнов. Северные экспедиции кафедры фольклора МГУ (1956—1959 гг.). СЭ, 1960, № 4.
143. Ю. И. Смирнов. Архангельская фольклорная экспедиция МГУ в 1962 г. СЭ, 1964, № 5. В отмирании эпоса мы убедились и в ходе последующих поездок на Север в 1963—1971 гг.
144. См. также в статье Э. В. Померанцевой «Судьбы былевого эпоса в послевоенные годы» (РЛ, 1963, № 4), где, в частности, приведены и наши суждения об общественных обстоятельствах, обусловивших этот процесс. Вопрос об общественных факторах, воздействующих на бытование фольклора вообще и эпоса в частности, впрочем, еще не разрабатывался советской фольклористикой.
145. Н. П. Колпакова. Новые записи былин на Печоре. РФ, 1957, т. II; она же. На Печоре. СЭ, 1958, № 6; она же. На Мезени. СЭ, 1960, № 2; В. В. Митрофанова. Мезенская экспедиция 1958 г. РФ, 1959, т. IV; она же. Мезенская былинная традиция в наши дни. РФ, 1961, т. VI.
80
![]()
по сравнению с 20—30-ми годами. На самом же деле не изменилась методика собирательской работы. Ленинградские фольклористы, как и их предшественники, предпочитали записывать полнокровные тексты и не прибегали к методу сплошной записи. Еще в 1961 г. Н. П. Колпакова и В. В. Митрофанова сообщили нам, что они и не стремились к исчерпывающей записи фрагментов былин, пропускали прозаические пересказы. Как видим, именно методикой собирательской работы определяется точность описания состояния эпической традиции. Метод сплошной записи, насколько нам известно, по существу не применялся также и при обследовании южнославянских эпических традиций.
Начиная с первых десятилетий XIX в. и вплоть до последнего времени, эпическая традиция фиксировалась на всей территории расселения южных славян, однако продуктивной она была главным образом в Западной Болгарии, Македонии, Боснии и Герцеговине, Далмации, Черногории. В данном случае мы ориентируемся на бытование и воспроизводство юнацких песен, в особенности песен с 10-сложным размером [146]. Если же учитывать все эпические песни, независимо от их стихового размера, то продуктивность эпоса южных славян была, пожалуй, повсеместной. В отличие от русского общества XIX в., где знание и исполнение эпических песен было уделом сравнительно небольших групп населения, у южных славян не существовало социального, географического или еще какого-нибудь деления на тех, кто знает и поет, и тех, кто этого не умеет. Потенциально там могли быть сказителями почти все, по существу же пела эпические песни основная масса населения. Способность свободно владеть эпическим стилем сохранилась до сих пор даже среди интеллигенции. Поэтому неудивительно, что там в рамках эпической традиции на протяжении XIX— XX вв. продолжали создаваться новые песенные версии и новые песни [147], получающие отклик и широкое распространение.
Случаи смешения прозы и песни, если они замечались, считались, по выражению С. Матича, «необычными». Вук Караджич в таких случаях отмечал: «плохой певец», «певец средней
146. Проникновение в юнацкие песни 8-сложного размера считается поздним признаком (см.: С. Стойкова. Проникване на осмосричен стих в българските юнашки песни. «Рад IX Конгреса фольклориста Југославије у Мостару, 1962». Сарајево, 1963).
147. О некоторых случаях изменения традиционных эпических моделей см., например: С. Стойкова. Традиция и новаторство в българското народно песенно творчество с историко-героична тематика. ИЕИМ, 1965, т. VIII; A. Lord. The Singer of Tales. N. Y., 1968.
81
![]()
руки». О случаях смешения либо вообще не упоминали [148], либо говорили как о редких исключениях [149]. Единственное тревожное известие о переходе песен в прозу, которым мы располагаем, было сообщено Д. Недельковичем. Он писал, что ему в Малешевском районе Македонии до второй мировой войны эпические песни «пели сотнями», а после войны люди уже не пели, «хотя многие могли пересказать мотивы эпических песен» [150]. Сообщению Д. Недельковича противоречат утверждения К. Пенушлиского, который отмечает, что в Македонии эпические песни только поют, что сказывание («рецитатив») там — «курьез» [151], а о прозаических пересказах вообще не упоминает. Мы не можем быть судьями в этом вопросе, так как проверку сообщений нужно проводить только на месте.
М. Филипович констатирует, что об эпических героях имеются и предания: о Марке Кралевиче рассказывают повсюду, о воеводе Момчиле — в Македонии, Черногории, Боснии и Сербии; о Реле Крилатице — в Сербии, Боснии и Хорватии [152]. Однако при этом он не раскрыл сюжетного состава преданий и не сказал, связаны ли они своими мотивами с эпическими песнями, можно ли их считать остаточными продуктами бытования эпической традиции.
Р. Филипович-Фабиянич, приведя ряд примеров рассказывания эпических сюжетов, делает три вывода: 1) проза является результатом распада песен (мнение Вука Караджича); 2) проза и песня сосуществуют параллельно, исполнитель выбирает форму в зависимости от обстоятельств; 3) сказка (рассказ) предшествует песне, т. е. всякое событие сначала рассказывается,
148. С. Стойкова. Наблюдения върху съвременното състояние на юнашката епическа традиция в България. «Славянска филология», т. V. София, 1963; С. Romańska. Neke obšte osobine pesama o Kralevicu Marku koje su zapisane u novije vřeme na dalmatinskim otocima i u Bugarskoj. «Rad XI Kongresa Saveza folklorista Jugoslavije u Novom Vinodolskom 1964». Zagreb, 1966.
149. M. Murko. Tragom srpsko-hrvatske narodne epike, knj. 1. Zagreb, 1951, глава 8; Ц. Романска. Преданията за Крали Марко във фолклора на южните славяни. «Славистични студии. Сборник по случай V Международен славистичен конгрес». София, 1963, стр. 388 и сл.; С. Матич. Указ. соч., стр. 240—241.
150. Д. Недељковић. Расматрања на изворима старе македонске епике. «Зборник радова Етнографског института САН», књ. I. Београд, 1950, стр. 10. Автор не говорит, записывал ли он эти пересказы.
151. К. Пенушлиски. Современата состојба на македонската епска традиција. «Реферати на македонските слависти за VI Международен славистички конгрес во Прага». Скопје, 1968, стр. 111.
152. М. S. Filipović. Lokalna predanja — zanemarena vrsta usmene književnosti. «Rad Kongresa folklorista Jugoslavije na Bjelašnici 1955 i u Puli 1952». Zagreb, 1958, str. 137—144.
82
![]()
затем перелагается в песню, а потом проза и песня сосуществуют параллельно [153]. По ее мнению, первый вывод совершенно неприемлем. И это мнение симптоматично как косвенный показатель того, что переход песен в прозу у южных славян еще не стал необратимым процессом.
В 1961—1964 гг. болгарские фольклористы предприняли обследование ряда районов с целью выявления современного состояния юнацких песен [154]. Они обнаружили бытование свыше 150 сюжетов юнацких песен и при таком богатстве, естественно, не стремились к сплошной записи. Всего ими записано 1277 песен. Многие из них, как признают и сами болгарские ученые, уже трудно назвать юнацкими: они явно трансформируются в лирику и в балладу. Примечательно и то, что многие певцы, забывая собственно юнацкие песни, все же не хотят их лишиться навсегда. Поэтому они либо прибегают к заимствованиям из различных книжных изданий, либо вставляют имена популярных юнаков, особенно Марка Кралевича, в лирические и балладные песни и считают такие переделки юнацкими песнями. Марко Кралевич почти полностью вытеснил других юнаков. Похоже, что для певцов петь юнацкую песню — значит, петь прежде всего и главным образом о Марке Кралевиче.
Наряду с песнями болгарские фольклористы впервые в истории своей науки активно записывали предания о юнаках, в составе которых спорадически встречаются мотивы и даже целые сюжеты, ранее известные по юнацким песням. Кроме того, они записали, по нашим подсчетам, около 70 пересказов собственно юнацких песен. Насколько эта цифра соответствует объективному состоянию эпической традиции, сказать невозможно, ибо сами собиратели об этом умалчивают. Осенью 1968 г. в беседе с Ц. Романской и С. Стойковой автор этих строк спросил, сталкивались ли они со случаями пересказов юнацких песен и можно ли считать, что тенденция рассказывания возобладала. Нам было отвечено, что случаи пересказов учащаются, однако необратимый переход юнацкого эпоса в прозу еще не произошел. То же самое мы констатировали ранее в отношении эпических
153. R. Filipović-Fabjanić. Odnos nаrodnе pesme i pripovetke. «Rad IV Kongresa folklorista Jugoslavije u Varaždinu 1957». Zagreb, 1958, str. 177—180.
154. Часть текстов и другие результаты обследования опубликованы в кн.: «Български юнашки епос». Научен ръководител Ц. Романска. Авторски колектив: Р. Ангелова, Л. Богданова, Ц. Романска, Е. Стоин, С. Стойкова. СбНУ, кн. 53. София, 1971. Считаем нужным отметить, что это самая крупная во всем славянском мире публикация эпических песен в современной записи. Тексты сопровождаются солидным исследованием с учетом исторической ретроспективности и богатым справочным аппаратом.
83
![]()
песен, бытующих у болгар, живущих уже 160 лет на Измаильщине и в Приазовье [155].
Тем не менее мы должны подчеркнуть, что трансформация эпических песен у южных славян реально и объективно еще не описана. В отношении южнославянских эпических традиций пока не проводилась работа, по методике аналогичная работе экспедиций МГУ. И все же, по-видимому, не будет преувеличением, если утверждать, что южнославянские эпические традиции переживают сходный этап со значительным «опозданием» по сравнению с русской, что они сохранили свою продуктивность по меньшей мере до второй мировой войны, а в некоторых местах — ив последующие годы.
8. Вывод о стадиальном положении славянских эпосов
Какой бы уровень рассмотрения славянских эпосов мы ни взяли, каждый раз многообразие южнославянских форм будет столь самодовлеющим фактором, без исследования которого невозможно решение какой-либо проблемы. Многообразие форм есть безусловно проявление жизненности и актуальности эпоса, уже достигшего стадии сложения определенных канонов, но еще не подвергшегося чрезмерной унификации.
Многообразие зачинов южнославянских эпических песен очевидно, причем некоторые их типы [156] тождественны русским. Не столь приметно, но вполне реально большее, в сравнении с русскими, разнообразие типов композиций, и среди них можно обнаружить параллели, вероятно, ко всем русским типам эпической композиции. Судя по работам М. Брауна [157] и Ю. И. Юдина [158], все русские типы эпической композиции имеют параллели на южнославянской почве, однако сходными примерами композиции не исчерпывается состав южнославянских типов. У южных славян очень популярна эпическая композиция, начинающаяся с выезда героя из дома [159]. По мнению В. Я. Проппа, это — «древнейшая форма композиции»; сюжеты,
155. Ю. И. Смирнов. Новые записи болгарского фольклора в Советском Союзе. «Литература славянских народов», вып. 8. М., 1963.
156. См. выше о пире, «нашествии — туче» и др.
157. М. Браун. Композиция героических народных песен на материале сербохорватского эпоса. РФ, 1960, т. V.
158. Ю. И. Юдин. Композиция героических былин. ВЛУ, 1966, № 14, серия истории языка и литературы, вып. 3.
159. О значении дома, как первичного представления об этнической родине, см. выше.
84
![]()
которые строятся иначе,— более позднего происхождения [160]. Между тем русских былин, начинающихся с выезда героя из дома, очень мало: «Добрыня и змей», «Волх Всеславьевич», «Алеша и Тугарин», «Илья и Соловей-разбойник», «Дюк Степанович». Интересно, что они так или иначе содержат змееборческую тему.
Исключительное обилие южнославянских эпических сюжетов и их версий, пожалуй, может сильно охладить надежды на выявление славянской эпической общности. Небольшой сюжетный запас русского эпоса и ограниченное, нередко совсем малое число версий, казалось бы, абсолютно несопоставимы с поразительным богатством сюжетов и версий у южных славян. Располагая этим богатством, южные славяне вроде бы имели большие, чем восточные славяне, возможности для образования многосоставных произведений. Тем не менее удельный вес многосоставных произведений в южнославянском репертуаре заметно меньше, чем в русском. С. Стойкова, изучавшая вопрос о контаминациях в болгарском эпосе, отмечает, что в опубликованных сборниках контаминированных юнацких песен не было и что только после второй мировой войны певцы стали прибегать к контаминациям [161]. Между тем по существу все русские былины, считающиеся самыми древними («Волх», «Потык», «Дунай», «Садко» и др.), в своих вариантах, как правило, многосоставны. В группах же южнославянских песен, посвященных таким архаическим темам, как встречи и отношения с солнцем, змеями и самовилами, добывание (похищение) невесты, многосоставные произведения почти не встречаются.
Итак, если на основе проведенного сравнения признать в качестве критериев несколько более позднего состояния эпоса такие явления, как индивидуализация героев, господство одного эпического центра, центральное положение иерархии эпических героев, высокий удельный вес типизированных описаний и их большую повторяемость, ограниченный набор композиционных приемов, многосоставность произведений, относительно небольшой сюжетный репертуар и т. п., то можно заключить, что южнославянские эпосы были застигнуты собирателями явно на более ранней стадии эволюции, чем русский эпос. Дополнительно необходимо подчеркнуть, что исторические условия на Балканах способствовали большей консервации эпической традиции и сохранению древних черт, предопределяли большую ее
160. В. Я. Пропп. Фольклор и действительность..., стр. 68.
161. С. Стойкова. Наблюдения върху съвременото състояние..., стр. 30—31; «Български юнашки епос», стр. 97—98.
85
![]()
жизненность и актуальность, нежели в любых районах России, Украины и Белоруссии.
Сделанный вывод не следует понимать так, что в русском эпосе имеются только поздние черты, а в южнославянских эпосах, напротив — только ранние. Как было показано здесь, речь идет о соотношении более ранних и более поздних качеств однопорядковых элементов русского и южнославянских эпосов. В русском эпосе более поздние качества преобладают, что нельзя отождествлять с тезисом об отсутствии в нем более ранних качеств.
Работы итальянского ученого Б. Мериджи [162] иногда использовались как аргумент в пользу большей древности русского эпоса, однако его заключения о стадиальном положении славянских эпосов противоречивы [163]. Он использует количественно очень небольшой материал и, несмотря на ряд тонких замечаний (например, о «киевизации» былин как о позднем признаке), практически подставляет вместо истории эпоса его предысторию, которую он обнаруживает в шаманских ритуалах и племенных обрядах посвящения. Видимо, по той простой причине, что такие обряды на славянской почве весьма гадательны, Б. Мериджи счел нужным предположить, что как восточные, так и южные славяне позаимствовали древнейшие свои произведения у скифов и сарматов [164]. Как видим, построения Б. Мериджи по существу не требуют глубокого анализа текстов. Эти построения без труда можно заменить десятками других, адекватных и односторонних.
Стадиально более позднее положение русского эпоса отнюдь не означает, что этот эпос и возник позже южнославянских эпосов. Вопрос о возникновении эпоса не нужно отождествлять с вопросом о его стадиальном положении по отношению к другим эпосам. Поскольку точку отсчета времени для славянских эпосов мы видим в эпохе расселения славян и их перехода к государственности, постольку естественным будет предположение, что русский и южнославянские эпосы возникали одновременно.
Вполне вероятно и то, что эпические традиции западных славян, украинцев и белорусов зародились одновременно с русскими
162. Б. Мерићи. Митолошки елементи у српскохрватским народным песмама. «Анали филолошког факултета», књ. 4. Београд, 1964; он же. Наблюдения над «Сборником Кирши Данилова». В сб.: «Роль и значение литературы XVIII в. в истории русской культуры. К 70-летию со дня рождения П. Н. Беркова». М.— Л., 1966; В. Meriggi. Żrodla i pohodzenie bylin. — «Slavia orientalis», 1968, N 1.
163. Ср. Б. Мерићи. Митолошки елементи..., стр. 274, 275, 278.
164. В. Meriggi. Żrodla..., str. 11.
86
![]()
и южнославянскими. Другое дело, что стадиально они относятся к русскому эпосу приблизительно так же, как русский эпос к южнославянским.
То состояние, в котором западнославянские эпические традиции были найдены собирателями, очень сильно напоминает современное положение эпики в Ярославской, Калининской, Вологодской и многих других областях России. И в русских районах теперь, как и в западнославянских районах (Моравия, южные и восточные районы Польши и др.) сто — сто пятьдесят лет назад, уже не встречаются песни о мифических существах и богатырях, но кое-где, а местами довольно часто можно обнаружить, например, баллады, которые, впрочем, уже не осознаются как эпические произведения и в большинстве случаев тяготеют к лирическим песням, подвергшись соответствующим изменениям. Почти то же самое можно сказать об эпических традициях украинцев и белорусов. Разница лишь в том, что их стадиальное положение, судя по записям XIX в., прямо сопоставимо с современным состоянием русской эпической традиции в более северных районах России (Заонежье, Пудога, бассейн р. Онеги, Поморье и др.) [165].
В данном случае мы могли бы сослаться исключительно на свой личный опыт полевой работы в Вологодской (1954 г.), Белгородской (1954 г.), Ярославской (1954—1956 гг.), Воронежской (1957 г.) областях, на Русском Севере (1956—1971 гг.), на Буковине (1965 г.), на Рязанщине (1973 г.). Однако остаточные явления эпической традиции непроизвольно фиксировались и многими другими собирателями. Сказки о былинных богатырях, баллады, исторические песни записывались, например, вплоть до настоящего времени в Пензенской, Калужской, Ярославской, Вологодской, Горьковской, Куйбышевской областях, среди русского населения Татарии и Башкирии [166]. Их записывали студенты МГУ во время фольклорной практики в Новгородской и Владимирской областях. Все же следует подчеркнуть, что специальный поиск эпических произведений в средней полосе России, как правило, не проводился. Поэтому особенно интересны опыты проведения такого поиска, сделанные
165. Некоторые подробности об украинской и западнославянской эпических традициях в сравнении с русской см.: Ю. И. Смирнов. Следы эпической поэзии на Буковине. СС, 1966, № 3. С нашими наблюдениями очень сходны констатации В. Тхожовой-Стиборовой в отношении современного бытования чешских баллад (V. Thořová-Stiborová. Kvalitativní proměny české lidové balady w posledních desetiletích. «Česky lid», 1969, N 3, str. 139—144).
166. Подробнее об этом см. в нашей статье «Современное состояние русской эпической традиции» (сб.: «Современное состояние народного творчества».
87
![]()
Г. Г. Григорьевой, любезно предоставившей свои материалы в наше распоряжение. В 1961 г. за очень короткий срок Г. Г. Григорьева записала в поселениях на оживленной магистрали Торжок—Осташков (Калининская обл.) свыше 30 баллад и поздних исторических песен на 14 сюжетов, в том числе «Муж жену губил», «Свекровь губит сноху в отсутствие мужа (Князь Михайла)», «Муж губит жену по клевете матери», «Муж-разбойник», «Братья-разбойники и сестра», «Дочь пташкой прилетает домой», «Молодец в темнице» и др. Аналогичный материал Г. Г. Григорьева собрала и в Рязанской обл. в 1965 и 1968 гг. Характерно очень сильное совпадение сюжетных составов остаточной русской эпической традиции средней полосы и западнославянской традиции.
Именно зная о довольно позднем состоянии эпики у западных славян, украинцев и белорусов, надлежит оценивать в ней отсутствие устойчивой иерархии эпических героев и эпического центра, крайнюю ограниченность набора композиционных приемов, низкий удельный вес «общих мест» или зачастую полное их отсутствие, стабильность сюжетов и вместе с тем «пренебрежение» к действию, еще меньший, чем у русских, сюжетный репертуар и т. д. Нетрудно заметить, что некоторые признаки (например, удельный вес «общих мест») вроде бы родственны чертам, свойственным южнославянским эпосам. Однако подобные совпадения было бы ошибочно считать критериями одинакового стадиального положения, так как их нельзя выделять из всей совокупности сопоставляемых явлений, безотносительно к типу эпических песен, уровням эпического творчества; у южных славян низкий удельный вес «общих мест» обусловлен вниманием к действию, тогда как у западных славян это же явление стоит в связи с распадом повествования. Короче, процессы активного бытования эпоса нельзя отождествлять с процессами его отмирания.
Итак, славянские эпосы в зависимости от состояния, в котором они были обнаружены, располагаются в следующем временном порядке: 1) южнославянские эпосы; 2) русский эпос; 3) западнославянская, украинская и белорусская эпика.
Если абсолютизировать временные различия между славянскими эпосами, то из этого вывода, конечно, нельзя извлечь что-либо плодотворное. Мы принимаем вывод в качестве отправной точки дальнейших исследований эволюции славянской эпической системы и ее элементов.
Так как стадиальные различия между славянскими эпосами выявляются по записям, сделанным почти одновременно, то отсюда легко заключить, что эволюция эпоса даже у родственных
88
![]()
народов может протекать различно — быстрее или медленнее. Скорость процессов эволюции несомненно следует связывать с различиями в исторических судьбах народов, и скорость эта, вероятно, не бывает одинаковой на разных этапах исторического развития народов, подтверждением чему является неодинаковость состояния традиции в разных районах расселения одного народа.
Учитывая, что у славянских народов сохранились три последовательные стадии эволюции эпоса, придется считать методологически неправильным изучение материалов какой-либо одной стадии без привлечения должным образом материалов других стадий. Вопросы выявления общеславянских эпических ценностей, реконструкции какого-то уровня эпики, изменений логики эпического творчества на протяжении по меньшей мере одного тысячелетия и многие другие вопросы нельзя начинать разрабатывать без уяснения стадиальных различий между славянскими эпосами.